«Флаги». Двенадцатый номер

Содержание
Фото на обложке – «шум пустоты» | vk: @shum_pustoty
Маловероятное
<…>
что слышно в широком шуме дубовых крон
что скажешь врачу если завтра пойдешь к врачу
что ночь наступает сразу со всех сторон
как это как сам не знаю чего хочу
что вертится слово какое-то на языке
что совесть какая-то мучает ни за что
всю ночь вспоминал о невнятном бухом мужике
одетом в какого-то цвета пальто-шмальто
спросил закурить и прошамкал Ну, как ты брат?
Кого-нибудь видел из наших? Давай Спешу
потом обернулся Эй, слушай, ты не виноват
что дальше не разобрал сквозь широкий шум
<…>
ты по ночам забирающий за долги имена вещей
литератор Жи Ши
пожиратель каменных львов
деревянных лошадок
фаянсовых слоников древних
трактатов о ласточках
плетущих кровь будто бы под грохочущими мостами
этой страны
воздушных змеев и прочих бумажных
в клетку или в косую линейку
слов начинающихся на букву и слов
начинающихся на вдохе само собою
не от хорошей жизни
прощай
девять экспертов из десяти всё равно
признают тебя психом конечно но в общем
вполне вменяемым
для назначенной впредь судьбы
<…>
я же вам говорил
по этому хутору ходит смерть
бабочки собираются под фонарем
мужики похмеляются троекратно в пустое небо и рвутся в бой
ветер полощет стиранные рубахи навзлет а когда умрем
ветер уносит дым словно бог с тобой
смерть не болит бабочки собираются улетать смерть ходит рядом
мужики похмеляются троекратно договариваются о былом
ветер меняется все кончается садом
вернее домом в саду идущим в конце на слом
мужики собираются выпить смерть предлагает повод
уже совершенно безветренно а качели поскрипывая покачиваются
тут нет никого кто был еще жив уехали в город
там тоже нет никого мне так кажется
<…>
тютчев страшен что бог не со мною и всё до дна повторимо
там на кухне на кухне я видел бледный огонь и камень
ейный мужик сказал выйдем поговорим вышел и будто канул
и она одна некрасивая сидела мне говорила и говорила
на языке своем непонятном смешном березовом
сидела на табуретке как-то так криво курила приму
пепел роняла на ветхий халатик примерно розовый
пуговицу теребила-теребила оторвала и бросила
покатилась и плакала чему-то главному а я поддакивал
подливал ни слова не понимал только между датами
видел паузы где теплее где потерпеть если можно выжить
отговорив аж до неба вытерпеть всё даже выше
<…>
только потрогать и всё сентябрь он звякнет в ответ и всё
он хлипкий солдатик в пустом освещенном дежурной луной коридоре
он в госпитальном халате почти по самые щиколотки
и тесемки кальсон завязаны на такой вот бантик трогательно
не помнить за что ты здесь слыть золотым золотым
немного чокнутым напросвет
что паутинка ли трещинка в тонком стакане дзынь
и всё ничего больше не будет
ни телефона ни мессенджеров одни только письма
и те не тебе никому на предъявителя до востребования
но это уже зима
а ты не грусти солдат
помни старые рифмы о главном на всякое «чё»
отвечай незатейливо весело «через плечо»
на плацу маршируя читай про себя Басё
если получится
или «да ну его всё» повторяй
уточнив для не въехавших «всё и вся»
ну кроме разве что звука такого когда скользя
по стеклу пальцем выводишь заветный ноль или О
кроме к примеру гудения пчел в сентябриновый мёд ни для кого
кроме скрипа пустых качелей в пустом саду шагов шорохов
грохота грецких орехов по крыше и голосов этих шепотов
шепотом:
и щелчка предохранителя ещё только потрогать и всё
быть золотым золотым
и держать до упора до самой железки
<…>
знал же ну знал же что степь
место маловероятное
знал же что в этих травах не бьется кровь
поэтому их цветы не кричат и не пахнут
а удушливо только паренье с тех пор воспаленных птиц
и царапает горло пересохшая пустота ястребиного воздух
знал же тех пор витиеватые песни
кстати чужие знал же наверняка
что стоит сорваться дождю хоть на полчаса
и уже никому не уйти и пиши пропало
все пропало пиши дороги развезло с устатку люди-как-люди
загодя запаслись мылом солью спичками караоке
а мне-то представь каково
ну знал же ну вот и не жалуйся
напиши все пропало надень галоши
и выйди во двор покурить
посмотреть в глаза полукровке цезарю всю жизнь просидевшему на цепи
как собака скажи ему как собака потрепи по загривку он будет рад
до смерти
<…>
вот вам причины рисуя ангелов
не отказываться от ярких красок
1. даже рисуя ангелов
2. нам все равно зима
3. нас все равно не спасти
4. четверть века назад в метро напротив меня
сидела мулатка на девятом уже наверное месяце
с красным шарфом и такими глазами
что я как дурак проехал до юго-западной
и долго потом не мог понять что я здесь делаю
5. до сих пор не понимаю
6. пакет разорвался и мандарины рассыпались
7. сосед Мыкола забил к Новому году свинью
и сквозь прибывающий снег
все равно
проступает кровь
8. ангелы есть
9. смутно и совсем не холодно
10. их все равно не спасти
и т. д.
n. все равно
<…>
проснулся от кашля и больше уснуть не вышло
негромко оделся и просто пошел вдоль канала
от дома на запад хотел насовсем но неважно
над смутной водой в пять утра никого не летало
трава была мертвою хрупкой любви не хватило
всё вовремя остановить никогда не хватало
он помнил слова но никак не мог вспомнить мотива
и это достало его а кого б не достало
земля холодна была и велика не по росту
вас там не стояло а я там живу по привычке
и он возвратился нет не испугался а просто
закончились спички сказал что закончились спички
Заходя в лес, приходишь к могиле отца
***
кинотеатр у моря под открытым небом
домашнее вино в бутылке из-под колы
на экране фильм убитого больше
сорока лет назад пазолини
пахнет гашишом
гниющими водорослями
остывающими цветами
буквально услышал их
прочитав в переводе шломо
стихи убитого восемьдесят
пять лет назад лорки
о чём мы в ту ночь с ней говорили
кроме концерта круга
в клубе манхэттен-экспресс
на первом этаже давно снесённой
гостиницы россия
памяти плевать на уместность
ешь что дают
о чём продолжил говорить
окуная в неё язык
оставалось около недели
разбавленному светом проектора августу
***
не поможет и ритуал отверзения уст
реконструкция в музее звука близится к зиме
повторяю дерево-река озеро-куст
принимая одно за другое как само собой разуме
так перепутав в незнакомом языке
считаешь к примеру дерево рекой а реку деревом
пока беззлобно посмеявшись не поправят
***
закрытый в кузове
цепляясь за чей-то рукав
чувствуешь себя ненужным предметом
использованным не по назначению
а назначение в чём
давай его отпустим пусть бежит
как рыба в песне монти и монток
как деревья выросшие из сгнивших лодок
у пустой бетонной коробки
с вывеской «шиномонтаж»
оградой вкопаны пустые огнетушители
бежит по следу от двери
весной от слякоти утопленной в земле
собиравшей весь май лепестки
тускло поблёскивавшей
из своего проёма
***
второй раз за лето плыть под дождём
к яркому до нелепости на фоне потемневшего неба
полотенцу в примятой траве возвращаясь от поворота реки
к пустому берегу у города за железнодорожными путями
напоминающего такие же города не названием улиц
или типовой застройкой как правило чем ближе к станции
тем больше валяющихся в пыли одноразовых масок
тем меньше объявлений о пропаже кошек
в городе за железнодорожными путями
но до них нам ещё идти и идти ближе к дереву
растущему посреди поля отдельно от своих
на обочине асфальтированной полосы
разделившей поле
***
сняв пролетевший над деревьями самолёт
вспомнил его надувную детскую модель
на которой в восемьдесят восьмом
плыл над зарослями водорослей
к птице видимо и кукле из записных
книжек алехандры писарник
останавливаешься посреди чужой строчки
прочитанное слово отшатывается от непрочитанного
за тот месяц что не был здесь поле сожгли
меж обугленных стеблей борщевика
подрагивает паутина без паука
***
списанные плавучие рестораны
вмёрзшие в январский лёд яхт-клуба у водников
и лодки ушедшие в снег до панорамных окон
без жалости переводил в световой шум
расползающийся по всем своим световым швам
на просроченной плёнке незапланированной
мультиэкспозицией (со сменой 8м бывает)
пересечения хотел сказать «теней»
гораздо ближе и темней новенькой гематомой
вот мы и дома тише чтоб его не разбудить
из проявленных это единственный
не удалённый снимок
***
музыка рассеивается в больной листве
принимая их форму становясь их пятнами
погасшим шелестом новой тёмной волной
выкорчёвывал погибшие плодовые деревья
мартиролог непрогляден
при всём желании не проглядишь
твой текст из опознавательных знаков
на осень прибился к береговым огням
к лесу прибился отец не оставивший
путей к отступлению
откуда не вернулся в августе 2004
первого сентября не обнаружив следов свернули поиски
и заходя в этот лес приходишь к могиле отца
неусвоенное самовоспроизведение
приходя к могиле отца заходишь в лес
Жизнь за большою водою
ДЕРЕВО-РЕКА
В.Т.
В полночный час с его ветвей,
плодоносящих паром,
свистит плавучий соловей
прибрежных уток парам.
Оно из той зеленой тьмы,
которой были мы.
По зыбчатым его корням
восходят соки света;
оно ни зубчатым коням,
ни бабочкам не спето –
а пел его безумный рот
сержанта лунных рот.
Без цели рыбья кровь его
течет тысячелетье –
ни существо ни вещество,
ни то ни сё ни третье.
Оно из тех зеленых игр
внутри зеленых игл.
Пространство – сплющенный грибок,
огонь родится снова,
земля – бессмертный колобок,
вода всему основа:
рука и меч, река и речь,
а дереву – истечь.
Оно несет из тьмы не тьму
созвездьям, вазам, вязам,
а связный шум, что никому
до жизни не был сказан.
Никем не сделано оно,
ничем не рождено.
КАНАТНАЯ ДОРОГА НАД ВОЛГОЙ
Кто висел на крюке над водой волосатой,
подвижной как явь, пятнистой как сон,
не сотой любви не признает, ни пятой
средь безлицых имен, средь лиц без имен.
За спиною церквушки и многоэтажки
и через час загорятся огни.
За рекою церквушки и многоэтажки,
но другие они, из другого они.
«Кто живет в городках из бетонных пастилок,
и зачем сероглазые люди реки
висят на крюках и в коробках постылых
с косматых утесов ползут в городки?»
«Недобра будет ночь над большую водою,
когда загорятся огни через час.
Нехитра она, жизнь за большою водою,
да некому жить ее: нет еще нас.
Ты не вспомнишь печали ни пятой, ни сотой,
только вспомнишь веселые лица зверей.
А потом разживешься особою сотой,
и сиди в ней как хочешь – не добрей, не зверей.
Там роза недвижна на лапе Азора,
там доселе шуршат диплодоки в хвощах.
Там не будет ни славы тебе, ни позора
в невинных, вчера сотворенных вещах».
ПОЧТА
В.Б.
приходит почта
с луны
приносит вот что
для ны:
«не будет хлеба
не будет ласк
а вместо неба
синеный воск
нет воли птичке
слететь с конька
испить водички
из-под ледка»
приходит почта
со дна
приносит то что
должна:
«тебя намажут
на бутерброд
тебе покажут
бездонный рот
не будет сорван
кто стал травой
но будет прорва
полна тобой
ты был медовый
дубовый лист
а стал бедовый
почтовый лист»
приходит почта
из тьмы
в ней только почва
где мы
СЕНТЯБРЬ 2021
лады машинной музыки
шуршат и дребезжат
нечастых капель пузики
вздыхают и дрожат
иди к реке под горкою
к железу и стеклу
к мосту у парка горького
в подсоленную мглу
где с каждого кораблика
и с каждого мостка
вытягивают бледный луч
как нитку из мотка
но нет еще широкого
по этому лучу
пути от парка мокрого
к сухому кирпичу
иди к сухому кирпичу
но в воду не смотри
по крохотному палачу
у капелек внутри
бежит пахучий красный зверь
по каждому лучу
рычит машинные лады
и дышит на луну
над речкой этой ржавою
что остается дней
с Москвою моложавою
чуть-чуть да опьяней
ТРИЖДЫ ТРИ
1.
три короля из трех сторон
(волхвы и толстяки)
из лобных пазух приходят в сон
который видят испокон
ослы и простаки
и говорят: не смей стареть
и молодеть не смей
вода темней огня на треть
не смей тонуть не смей гореть
сожги и смой свои следы
огонь на треть белей воды
(одно и то же с ней)
2.
три корабля из трех морей
(гукор фрегат и барк)
вплывают в каждую из дверей
(кто не закрыл закрой скорей)
во двор и в сад и в парк
везде вода она темней
в кости твоей пустот
и нету города под ней
и нет ни мелей ни камней
пошли лавировать суда
и вылавировали да
киту попали в рот
3.
три китовраса три кита
три части составных
ползут из ломаного хребта
не разобравшей ни черта
земли в цветах ночных
земля всегда вода огню
земля огонь воды
нельзя ни рыбе ни коню
пробить сыпучую броню
где для ликующих червей
цветет серебряный репей
звенит листва руды
Сверкающая усталость
ВОКРУГ ЗАТМЕНИЕ ВОДЫ
это ты, у кого внутри
черный квадрат крови,
окно в человеческий дом,
кто сказал: подержи мою душу
с ее детской обидой на бога, похожей на смерть,
но я не расслышала – в актовых залах всех
ночных зимних школ рейв мерцал как покой,
а если взойдет чистой звездой этот грех,
я здесь ради нее одной;
с кем, опустев от зари, стоим,
где жизнь и смерть прошли как поезда,
вокруг затмение воды?
раненый волк снега несет вдоль рябин
чудо своей правоты, повторим,
когда вложит в уста:
музыка нам желанна, ибо пуста,
ибо она утрата, она как ты
***
1.
«пух в фиолетовых переулках
после дождя пахнет газетами»
«а так он белые лохматые огни»
«скоро уйдем подземными туалетами
как огородами звука в небесные дни»
«да здравствует незапертый санузел
за школами, в тени вёсен,
где зрение стоит как тишина»
«последний ряд, эдемский сумрак дёсен,
фломастеры и слюна»
2.
«тот звон как будто бы кирки,
что каждую весну...»
«мы думали на турники
в проветренных дворах»
«но, возвращенные сюда,
мы били нашу тень
о госпитальную ступень»
«о слово никогда»
«как копилку для ос, как животное льда»
«это тот самый звук»
3.
«и они понесли эту весть,
что стихи не орудие мести,
а золотая месть,
если отринуть пух»
СВЕРКАЮЩАЯ УСТАЛОСТЬ
1.
это она была сентябрем
в хрущевках с сонным параличом
за занавеской, саркоидозом в легких:
бабушка в церкви, с фотообоев
сходит хрустальный ветер
ему приказано взять живьем
лазурную смерть изгоев
2.
она, когда раскрылись птицы эстакад
зонтом, воздетым подземельем,
одна против всего добра
за тьму под языком
во рту катала виноград
как черную звезду
3.
она записала лучшие треки ноунейма
в утренних сумерках, где взошла
ледяная крапива,
в мутных телегах она была
сказанным без надрыва
4.
придя из жалобной земли,
чему назло мы здесь вели
так долго сорные страницы,
что все живое отписалось?
сверкающая усталость
прощается, журавли
плывут уже совсем над другими полями,
за «плывут» извини
***
1.
красный цветок сорвал человека и дальше
цветет как поезд уходит дальше
как одного только ждет пустота
в амбарах, которой дурно от просверков ниток –
музыки, вынутой из живота
руководителем пыток
2.
«если они поэты, то я не поэт, –
говорит человек вне огня, – и меня заберет
голубой на просвет леопард электричества – мед
и мушиная липкость деревянных темнот –
любящий эмбиент»
3.
в небе один самолет и одна звезда
я сложу из них грусть небывалую, крепче смерти
пусть она спит в одеялах обрякших от льда
и лекарственных крыс после всего на свете
Ледяной слепок снимают с листа
***
Таящийся слог! я побываю здесь,
но тебя здесь не будет, ты тающий, ускользающий
диссипация, скажет физик, но это сип
скрылся с места – криминалист, только это смесь
выхлопные газы захлопают загогочут
в горле защиплют – но это взвесь
на пробу взятая и отринутая; немного
тяжело и грустно водить не встречая слога
все же я побываю здесь
***
Слово, ты успеешь на следующий поезд и проследуешь
над волнистой местностью, поросшей рейнутрией и борщевиком.
Раньше ты думало, что безбарьерная контрацепция мира
не допускает сбоев, иначе повсюду маячили бы
гибриды дорог и столбов, телефонов и рук, контагиозная магия
наслаждалась бы местью за развенчание деда мороза,
а теперь ей и вправду время смеяться – но добрым смехом:
инвазионные виды латают связь; капитан борщевик,
исходя едким соком, стягивает перерубленные саперной
лопаткой роскомнадзора кабели. Все очень медленно.
Музыку не скачать, но раздел философии на либ.ру
остается к услугам. Слово, ты медленно, моноширинно
поползешь по горизонтали. Раздел поэзии тоже там.
Аполлинер, Дю Белле. Есенин. Дайл-ап на счастье.
***
стены панельки молчат по-разному
после галича и золотой бричмуллы
после нирваны и найн инч нейлс
после обысков, разумеется, тоже;
звуки какое-то время блуждают
в тоннелях многопустотных плит,
высыхают плющом вокруг арматуры,
погибают, уткнувшись в ампулы с цезием
и снег, ежегодная манна пранкера,
и кошачий корм весенней земли
ничего не слышат снаружи, и значит,
по праву находятся в космосе
***
Глянь, ледяной слепок снимают с листа
лист вощаной, американский, разработан на случай суда
слепок растает, и можно обкислороживать те места
что обморожены форс-мажором, камеру вот сюда,
дальше в потоке афганский ужас и дикий кот,
белая тётка вопит, чтобы менеджер стал как лист
перед травой, у кого сильнее иммунный ответ,
тот перед выдохом пара останется льдист
***
День приятный, как билет
невозвратный, как скелет
застекольно чистый, как
протокольных чисел мак
на глазури, как зрачок
на лазури, как лучок
на участке, как пальто
из химчистки, как ничто
Из последней запятой
льются бредни шапито
нитью тянется надой
в листьях вянет шепоток
тонет хлипкое не то
то ли рыбкою блазнит
день продавлен в решето
день приятен день размыт
как простейший силуэт
как рассеявшийся свет
в дальнозорких колбах, как
слишком долгий полумрак,
как дыхание в строю,
как механика в раю,
донеслось в конце его:
вам поклон из ничего
***
Жизнь, проведённая
в пригородных пересадках,
и умевшая видеть магию
в столбцах и прочерках расписания,
перегрузившая свой багаж
через время, с малого на мцк,
принявшая к сведению мцд,
часть себя раскрошившая
птицам на полустанках.
Птицы те раскрасивые,
неприметные, стелс,
после зимовки голуби
на честном слове и на одной ноге,
ко всему привыкшие, доброе слово
курлычащие: доброе утро,
доброе утро,
или ночные рельсы, проброшенные
апеллесовой кистью к астрономии семафоров
Вот: работа в обсерватории, заговор
с проводами, которые держат
луну на лету в пути,
и ни крошки дерзости, тихая служба
с оформлением по СТО,
час-другой ежедневно – отчёт за отчётом
в нерецензируемый журнал,
и за выслугу только радость,
и доброе утро, доброе утро
В линии полутени
***
город-обморок
вещий впроголодь
сон-состояние вместо сердца
и вместо стука копыт гудение
словно железнодорожная стынь
прячется в линии полутени
дай мне напиться
своей уходящей
святостью
– следующая инстанция
кортизоловая темнота
это бывает
как бывает и
атрофия чувства свободы
ампутация чувства вины
отсеченье не чувства смерти
но в чувство-смерть
/отречение чувства смерти/
/это бывает
ведь март раньше обозначал смерть/
может кавафис был прав
и лучше было
уйти
сразу как кончится звон цимбал
поиск посильной ноши
хлопанья крыл воронья
добровольный острог
предуральского чувства
тоски габаритных огней
***
на снег кладут густые трубы
в ушах барахтается треск
огня там где дымятся срубы
как правило возводят крест
чтобы потом построить что-то
что простоит чуть дольше и
окажется на век прочнее
и для пейзажа тяжелей
на померанцевую радость
надежды нет но есть причуд
невыносимо невесомый
букет без отзвуков любви
есть растяжимые понятья
и право странности речей
когда стоишь простоволосый
под серповидной сигмой лун
кривится ночь костюм булата
наружу вылилось окно
оставь нас бог ты стекловата
оставь ты оптоволокно
я оптоволоконный инок
оставь где глубже бирюза
под перестуки драм-машинок
дивиться волглым небесам
***
далее исеть исеть исеть
провод чтоб висеть висеть висеть
выдержать свой панцирь на плаву
так канцерогены сентября
плавятся на мокрую листву
смолы перейдут по проводам –
дай мне слово, я им передам
далее непрочный монолог
книга предписала ничего:
по-над непрошедшей синевой
в палевом обличии висеть
солнце никогдавля, восходя,
падает за шиворот лисе
***
наспех рождённых вотчин
линии нарасхват.
переливайся, отче,
тысячей киловатт.
тот, что в сибири ожил,
язвой её прощён;
глянь – то ли дымом сложен,
то ли золой крещён,
выжег тайгу на коже
и захотел ещё.
прячешь азы дыханья
в свой боевой предел.
помнит земля завет,
вплавленный в ремесло,
как сердобольный свет
на горизонте лет
тает на полусло-
Для сборщиков сладкого воздуха
***
Песня – что, подъёмник, мускульный нажим,
тяга к высоте, посеянная в тихие предметы?
«Нам бы соблюсти себя, не говоря "закон",
им бы перестать бывать не нами…» –
смысловая ветвь открытый воздух подопрёт.
«Ты, браток, не падай, от бесед хмелея…»
В чаше плещет непокорная листва,
всякая колонна медленно меняет
белизну свою на цвет прогресса,
как шкала загрузки обновлений;
слышен говор, предвещающий отплытье,
но никто не отплывает, и матросы
забивают домино, выкрикивая что-то.
*
Сколько раз прощался с горизонтом – столько
будет и полосок на тельняшке – в этом
правда, как в окружностях на спиле древа:
ясная, подвластная попутной речи;
вёсельный удар по тишине всеобщей
оглушает глубину, всплывающую небом –
сокрушённый портик доберётся
шагом мраморным, осколочным – до жизни:
столько раз перерастала строчка
горизонт, переходила
в нежность и ненужность.
*
Мир сойдёт с губительной орбиты,
устремится в необъятный космос,
раздвигая заросли хвостов кометных,
в сказочную пустошь попадёт,
сделается ражим садоводом, не воспев
чистые ростки присутствия людского:
как же можно сад возделать,
песней не подняв ростки присутствия людского?
«Сердцем кликнуто "принять"» – но эта
строчка не годится никуда и ляжет
ласковой полоской на тельняшку
к темноте таких же.
***
Наш товарищ схвачен, мы не в силах
сонастроить время с высшим веществом:
в глину прятал камертонную закладку,
торфом присыпал её дорийским,
притоптав военным сапогом,
дёрном обложил обетованным,
искряным песком взрастил холмы,
возводил курганы вечных песен,
всеми силами призвав патруль.
Нам же интересны искры,
из ладони выпавшие в звук.
*
Наш товарищ присылает
карту неуместности для поисков огня,
где желанье, там поставлен крестик –
будет, чем воскреснуть второпях;
соберём отряд, в разведку почвы
окунёмся, тленьем вглубь проникнем
и нетленностью слои ухватим
времени, забывшего идти:
леность времени, ты стала почвой
городам, качнувшимся к величью,
да не устояли небоскрёбы: материк,
сотрясая день высотный, пробудился:
нам-то что – антиэтажным зданьем
не услышим зов землетрясений,
пенье поворачивая вспять.
*
Наш товарищ присылает
карту неизведанной планеты:
местность зачумлённого масштаба
электронным говорит рельефом
на дичайшем языке;
триста лет ушло на расшифровку,
чтобы прочитать патрульные нашивки –
как хвосты кометные, маячат,
как мосты над смертью, золотятся.
Нити залежались в древних книгах,
ожидая неослабных пальцев:
к свету пришивать шеврон.
ANIMA DEVORANS
Всё дальше в сны оттесняя почву,
ощупью окопной пусто́ты живут,
возбраняясь ливневой водой,
благословляют односкатное небо,
чей конёк – смеркаться, светлеть в словах:
недра задержаны ледовым патрулём,
творится блёсткий обыск.
*
В храмах – всё тот же обыск:
мироточивый, глядящий в рот
душе уплетающей: её крепчайшие зубы –
облачный жемчуг, нанизываемый журавлями
на нити морфологии, покуда ветер –
мотопехотный, танковый.
*
Под крышей обыска твоего
скопилось густое время,
в тягучей среде еле-еле
движутся тела, раскрываются рты,
люди шевелят губами,
выговаривая причины:
недоедает душа, тяжелеет,
набирает жилищный вес.
*
Сапёрная лопатка устала
блестеть и завистливо смотрит
на разговоры, потемневшие от взрывной
копоти, и над всем раздаётся:
«Предметы, добытые неотступным путём,
подлежат изъятию в целях
установления…»
***
Всё в один котёл: пейзаж, просящий
выкорчевать танковые дула;
книги о любви к попятным знаньям,
что хотят к истоку возвратиться правдой;
спящую пекарню, ждущую витриной поцелуя
от рассветов и закатов – всё равно, каких;
легкие объятья, привносящие телесный отсвет
в разговор; неужто очищеньем ци
дворник занят, коль надёргал сотни прутьев
из кустарника, держащего корнями нашу
доброту, политую пресветлыми слезами;
в плоский помысел людской
россыпью объёмных ягод
застучит прогорклый холод перезрелый;
за тебя заступятся, товарищ,
голоса́ негаснущих династий.
*
Сухари размочены в чернилах – так ли
не рождённые глотает письмена
человек, презревший чёрствость?
Жар в подмышку нагнетай, китайский мастер,
столбовым стояньем ртути попирая
мировой прогноз, навеянный немолодыми льдами:
слово перепутали и мёрзлый флаг,
на историю блестят с прищуром,
отрицают воду, над огнём смеются;
свергнем сумрак, вознося котёл превыше
пламени – пускай свобода па́ром
проникает в небо, не размякшее от криков,
в небо, не смягчившее остаток ночи.
***
Невзрослый касается берег ступней обнажённых
пронзительной колкостью, травным взрастаньем любви,
в предельное чувство молчат – поцелуями взятые рты;
кто входит по пояс в прохладную воду, ужели
зеркальной поверхностью делится надвое, чувствуя пах
едва ль принадлежным верховным дыхательным сферам?
В костре обнажался – до буквы – словарь разделений,
до зольного взмаха, до сажистой нежности жа́ра:
зачем нагота невозможна – ответь, рядовое
сравнение жизни и глади тишающей, водной;
нам не во что больше смотреться и нечем смолчать.
*
Болела вода, и усильем изгнали болезнь
в шуршание флагов, желавших скопировать волны,
а наш командир ясноглазый промок, размечая
на карте высо́ты, не взятые словом… Журнальный ли натиск
модельные гонит изгибы во взгляд подростковый, покорный
желанию, знавшему лучше: лишь наш командир
расскажет, что против красот повсеместны протесты,
что держится время людское на силе восстаний;
над нашей толпой транспаранты продуты сквозными
приливами ветра: и море едва отличимо
от воздуха, взявшего слёзы в надмирный полёт.
***
Шум колёсный, ты простужен:
возносил к холодам звезды –
ше́стерни, чуя: голос заужен,
не втиснуть рассказы благой беды.
Будет время – оставить рану,
где листовочный шелест остролист.
Скажи – «противостану» –
и сиплый шрифт неправоту утолит.
Дом заветный на граните
возведён: пусть подсобный свет
снизу бросает душные нити –
опутать прохожих, стреножить след.
Глупым гулом в подвальных рольнях
зарастает гранитная плита,
не хватит слов парольных
для входа в сумрак, где царит хрипота.
***
Стая криком своим подъята выше.
О толчея в груди, плотней,
увязнет голос в небесной жиже,
годной к засеву камней.
Рассвет поверившим роздан:
трудом ли вспыхнет земля, ведя
в медленный сказ бороздный,
стихающий уходом дождя…
Огонь догадлив, разборчив,
не тронет ветхих, своё возьмёт,
сколько просторов ночи
отправлено в словесный полёт?
Пляшет воздух, не отпуская о́бжи
на зачервивевших пластах,
мы все сдаёмся в сметливый обжиг,
душу зовём теснота.
***
Роются жуки в экскрементах,
сгущаемых прили́вным теплом;
зиянье наметилось в приметах:
что – к чему? Не знает гром.
«Голос, минуту нашу не пачкай,
пусть валяется на песке,
масляный свет куропачий
на темя капнет в тоске…»
Сердце помолчит златопёро –
воздеть не в силах выжженный мир,
огнём разговорным из простора
вытопить последний жир.
Лязгом цепей и якорным жахом
опростаются корабли,
время пейзажем поджарым
поднято выше земли.
***
Ласковый ли намечался происк
сгустков осадочных? Слюбится торф
с потемнелым небом (а в душе не ро́ясь –
кто к такому исходу готов?)
Лучше в подводном покопаться
запасе движения рыбьего: вот –
нежелание водой пропеться,
а вот – разговорчивый вид.
Обжигом прижизненных изделий
пламя грозит: раздувайся, костёр;
грязевые массы на размякшем теле
возлежат, попирая простор.
Люди на берегу отлогом
обмазаны глиной, как вязкостью фраз –
и неважно, под каким предлогом
втирается донная грязь.
***
Для сборщиков сладкого воздуха, почва, твердей –
в размякшей дороге болотным родством зацветают
следы, поднимаясь на сте́блях к большой высоте,
что выросла из ожиданий людских, и трещат
по швам разговоры, когда примеряет округу печаль:
«Нам перья в гадательном взмахе сулят переплавку,
и валом морским обернутся истоки торжественных дат,
солёной – не пресной – водой мы смываем себя с тишины,
мы – вечная примесь, покоя бессмертная взвесь…»
Смотрителя листьев, скрипучих стволов контролёра
призвали деревья, качнувшись к любви:
в дыханье насыпанный порох, смотри, отсырел;
мы ждали себя как сердечную вспышку.
*
Медовая песня и вдовую воду оставит ни с чем:
«Твой отблеск не сгинул, твой отблеск неверием жив,
а тот, кто проник остриём многократной души,
в пронзённое небо втекает – вернуться с расплавленной вестью…»
Хвалебная осень листвой залепляет трясинные рты,
выныривай вдохом, в огнях заплутавший лесник,
твои светлячки прозревают последние звёзды, и нечем
ружьё зарядить, что в плечо запустило слезящийся корень:
история жребий стальной не бросает в закат,
покуда в луче не повысится тяга к надмирному жару.
***
Вознесём к душе науку перфораций,
ритмом световым сквозит в ячейки
воздух, прирастающий к дыханью: говори,
дело, намечаемое сердцем небывалым,
под обстрелом прорастать не прекращают
и цветы, и голоса пайкового рассвета:
над людьми ветвится солнечное если б –
высветляя в прошлом лишь закон кабальный,
по какому восходили, словно по ступеням
высоту познать бескрылой датой.
*
Выпорхнет солдатский календарик,
ляжет в слово угловатым решетом:
присмирелостью сквозной прожит
каждый день, проколотый иголкой,
черпани картонкой время ожиданья, если
донести до пересохших ртов нельзя
азбучной ладони горечь:
прописное тело и ходьба начальных
строевых сравнений жизни и тепла
тишиной командовать не станут.
***
Рабочий, вышедший из цеха,
нагромоздив словесный стапель,
влагает выдох в долгий перекур,
в отрезок времени, распахнутый дыханью
тягучей горечью: в минуте всеприимной,
в просторном часе, в трёх веках бескрайних
надышано – да так, что запотело знанье,
прозрачность мутью подменив.
*
Умеет луч отбрасывать свою же
слепую массу – и за счет легчания сплошного –
его дорога нескончаема: поверим,
что зреньем тяжелеть – удел немногих
запутавшихся в ясных величинах,
а наше зренье общее есть шарик
воздушный: опьянён нутром летучим,
за нитку взгляда кто удержан – станет
извечный праздник означать.
*
Материи предпусковая забастовка
всё длится: миллионы лет пустеть
ракетам света, что направлены к людскому
сомнению: планета, было дело, исчезала,
лишь стоило её открыть, назвав:
упрёк в реакционной тяге
повис мятежных атомов промеж,
прикинулся известным притяженьем.
*
Есть неотступный образ: шарик виснет
на ветках, от зари колючих,
зажатый воздух возвращается в безмерность
своих истоков – и окна́ не нужно,
чтоб зренье защитить от сквозняков
и духоты, подкравшейся к молчанью
надзвёздной карты.
Лёгкий осколок воздушной среды
***
Полдень, разорванный на лоскуты,
Втоптанный в землю, ты всё же послушай –
Долгое эхо среды безвоздушной
Нам оставляет намёки, следы:
Лёгкий осколок воздушной среды,
Твой силуэт повисает над лужей
И, отражаясь, становится лучшей
Татуировкой на теле воды.
ИЗ ГРОНАСА
Только начал писать
И уже знаю куда
Заведёт меня речь
Вот сюда → сад
И сюда → вода
И сюда → смерч
И вообще – хоть куда
Главное – лечь
И не ждать ничего
никогда
***
Почему я потерян?
Ведь звонкая сущность Любви не умеет сказать
О долге своём перед совестью пол(н)ых озёр
Ты снова смахнёшь три ресницы в ладони весны
И крышкой чугунной накроет тебя простота
В лазури берёз в разрезе их глаз
Помолись и за них и за нас
***
Пусть останется след – хоть какой-то, хоть где-то. Когда
Настают времена для последнего поединка
Очертанья подошвы пускаются в танец как та
Остановка в пустыне последние крохи ночлега
В переулке у дома, где больше тебе не уснуть
И вокруг вырастают постройки из первого снега
И цепочка гирлянд полыхает как шёлковый путь
***
если кислород и вправду роскошь
то сгори в пробирке на потеху
полыхни незримой папироской
если цех носись золой по цеху
но в лице меняться не меняйся
помни как безвольны эти блики
коркой льда покрылась теплотрасса
мы с тобой по-прежнему безлики
***
Разные дни выдаются – получше, похуже
(сегодня – похуже)
Что-то наверху хочет заговорить со мной, но я внизу,
А оно всегда там, наверху же
Перед сном я открываю форточку и смотрю на бесснежье –
Пытаюсь прочесть голых веток корявый почерк.
Господи, почему Ты не мог выразиться яснее?
Снегоуборочная машина выезжает на пустую дорогу в полпервого ночи.
Музыка для бедных
***
У моего паспорта была жена
у офиса – мой пиджак
у пластинок – мой отец
у моей порнографии был секс
у няни – мой ребенок
у моей сигареты не было урны
Я понял свое тело
когда на пальцах остался пепел [1]
***
Работал сегодня глазами одного старика-сефарда.
Мы посетили почту, поликлинику, банк.
У него катаракта, а я не владею ивритом.
Так и бродили дуэтом слепого с глухонемым.
Я видел на потолке маленького геккона,
а во дворе нектарницу с клювом в бутоне цветка.
Огромный пальмовый жук замер на светофоре
и перешел на зеленый, не теряя достоинства.
***
В Израиле тараканы размером с птиц.
Кто их встречал, никогда не забудет.
Говорят, умеют летать, но я не видел.
При мне они не летают.
Каждый вечер убиваю одного таракана.
Точно рассчитанным движением.
Надеваю перчатки, поднимаю за ус,
швыряю труп в мусорный бак.
Они бегают быстро, но я умнее.
Я мечу не в таракана, а в место, где
он будет через четверть секунды.
Простая математика и знание людей.
***
Трепал я много языком,
и стёрся мой язык.
Вращал я много кадыком
и вывихнул кадык.
Стоит в траве моё лицо
без сущностных примет,
как будто брошенный предмет,
похожий на предмет.
И я смотрю, как ты идёшь
за чем-нибудь в магаз.
А магазин плывёт к тебе
в сиянии колбас.
И он уже не магазин,
а человек с лицом.
И я уже не магазин.
Я стал твоим отцом.
(Смотри, Огнёв, размер похож
на «был помол нелеп».
Ты хлеб не преломил, ну что ж –
купи нечёрствый хлеб.)
Я небо серое блюду
и дождь храню, как сон.
Прости, что этот сон – другой
и краток будет он.
Прости, а лучше не прощай.
Поговорим о том,
как ты была семь лет назад
укушена котом.
Весна закончилась тогда,
продолжилась потом.
Не наказали мы кота,
и ладно, чёрт с котом.
***
Сидим на кухне с тараканом.
Он водку хлещет. Я не пью.
Я мог убить его стаканом,
но раз уж сели – не убью.
Мы были оба мудаками,
но он всегда меня прощал.
Поговорим о Мандельштаме,
как Лёша Пеплов завещал.
У таракана нос орлиный,
драконий хвост, горящий глаз.
А я остался мёртвой глиной.
Но много общего у нас.
«Пойми, Петрополь умирает,
и прялкой тишина стоит...»
Но таракан вдруг понимает,
что сам с собою говорит.
Лишь лампы тусклая работа
и отражённый в водке ум,
и если слышал он кого-то,
то это просто белый шум.
***
Ночью, возвращаясь домой,
я шёл вдоль железки, смотрел в землю
Утром, по дороге на работу,
я шёл вдоль железки, смотрел в землю
Началась война. Я шёл
опустив лицо, чтобы никого не пугать
(у железки безлюдно, народ дёрганый)
Наступил мир. Я шёл
опустив лицо, чтобы никто не спросил:
что у тебя с лицом?
У железки, у гаражей
луна висит так низко,
что её можно принять за моё лицо
***
Вот знакомый человек –
как чулок на человеке,
и зияют из-под век
старыми слоями веки.
Я заплакал бы о нём,
но бывает и другое:
всё окутано огнём,
дерево трещит нагое.
Непонятно, что сказать.
Отвалилась говорилка.
И становишься опять
недотыкомка, мурзилка.
***
Однажды я тебя любил.
Любить я, правда, не умел:
я весь холодный был как лёд,
а волос белым был как мел.
Пока с тобою вместе жил,
я растопил весь этот лёд,
я растолок весь этот мел,
поднялся вверх и улетел.
Я улетел и всё забыл:
каким я был, каким я стал,
как мел толок и лёд топил,
как улетал.
***
Вечером нужно купить молока,
и полетит молоко в облака,
а пакет упадёт, словно мёртвая птица,
и ты спросишь меня:
– Где моё молоко?
– Высоко-высоко.
Перестань суетиться.
Попытайся легко
ко всему относиться.
– Ну а хлеб ты донёс?
– Он был страшно нелеп.
Но никто не смеялся.
В булке дырочку дрозд
просверлил и ослеп.
И я хлеба боялся.
– А рулон туалетной бумаги? – Рулон
прыгнул в сторону и размотался,
обернувшись священной тропой в Авалон.
– Ты ушёл по нему?
– Я остался.
Дождик лужи морочил, горел горизонт,
как летучая мышь, хлопал крыльями зонт,
телефон в рюкзаке задохнулся,
на вокзале сквозняк отобрал мой билет.
Я пошлёпал пешком. Я бродил много лет
и с пустыми руками вернулся.
***
Она отмечает кончиком сигареты
точки в воздухе, одну за другой.
То ли контуры тыквы, то ли кареты,
то ли ночного зверя – и хвост трубой.
Слово «сад» – прохладное и пустое:
сразу вижу дерево и цветы.
То ли нет никого во тьме, то ли
да-да, нет-нет.
Чуть возник – и след простыл.
***
В твоих чертах уже проявился
чужой человек. Ты носишь его на себе –
еле заметный контур поверх твоего лица.
В уголках глаз, где было (ты помнишь?) моё место,
обосновался он – вот след его поцелуя.
Только я вижу разницу.
Иногда он просыпается, начинает ворочаться,
смотрит по сторонам и тогда – выпадает
из тебя, как из колоды джокер. Становится рядом.
Идёшь, о двух головах.
А я никогда не мог
стать тобою хотя бы наполовину.
Во мне сохранился голод неразделённого существа.
Я касался тебя, ничего не понимая.
Жил то там, то сям. Ютился
между костяшками пальцев, спал
в уголках глаз. Не оставлял следов.
***
Говорил со мною дом:
«Я хотел бы стать котом.
После смерти навсегда
превращусь в кота».
Осень серая была.
Жизнь готовила капкан.
Папа встал из-за стола
и разбил стакан.
Умер дом, прошли года.
Мы живём внутри кота.
C дочкой и женой втроём.
Там, где котик, там и дом.
***
Наша жизнь похожа на дурдом.
Хорошо, тепло бывает в нём.
Дочка притворяется сурком.
Папа отворяется вином.
Папу ненароком отвори –
две тараньки прячутся внутри.
Съедены давно, а всё живут.
Косточками белыми скребут.
Мама хочет спать, но мамин сон
носится по свету, невесом.
В папе, словно в тереме пустом,
он расцвёл пылающим кустом.
Почему я был самим собой?
Почему я стал сухой травой?
Почему я в тереме пустом
расцветал пылающим кустом?
***
Звуки опустелого, мертвого леса.
Сердцевина умных, полезных вещей.
Здесь быстро наступает день рожденья музыки!
Музыки для бедных, для нас с тобой.
Долго мы гуляли по кромке, по бровке,
по стволам, как белки, летали гурьбой.
Кто найдет в траве две костяные флейты,
может быть, коснется нас с тобой.
[1] Стихотворение написано в соавторстве с Д. Волкош и Е. Малининой.
Паата Шамугия. Сон Ионы (перевод с грузинского Андрея Сен-Сенькова)
СТАРИК И РЕЧКА
Я рыбак
И, как только наступает ночь,
Я закидываю за спину удочку
И отправляюсь к берегу реки
(Удочка должна быть длинной,
Леска крепкой, а крючок огромным).
Перед тем,
Как начать смотреть на поплавок,
Ритуально закуриваю сигарету.
Леска натягивается,
Один ловкий рывок и
И на крючке МЕТАФОРА,
Бьющая плавниками, выскальзывающая из пальцев…
Но ей не спастись, она в умелых руках.
Я уже наловил достаточно мелких МЕТАФОР,
И, фактически, готов к осетроподободному СОПОСТАВЛЕНИЮ,
Ну, или к чему-то другому особенному,
И это будет, по меньшей мере, не ЛИТОТА!
Надо мной
Пролетают шумные журавли и что это хороший знак
Знает каждый рыбак.
Вот если журавли летят низко, тихо и быстро,
Тогда значит жди плохой день для рыбалки.
Я сегодня жду удачи,
Привет, друзья мои, журавли!
Многие не уделяют внимания деталям.
И это плохо, только плохой рыбак поступает так.
Поплавок подрагивает,
Леска натягивается,
Думаю, я поймал опрометчивую ИРОНИЮ,
Но ирония в том, что крючок пустой.
Снова и снова мне не удается подсечь ее,
Она срывается каждый раз.
Но, черт возьми, ИРОНИЯ высоко ценится
И хорошо продается…
Да, она костлявая, но кому нужна ИРОНИЯ без костей?!
Ладно, СИМВОЛЫ тоже неплохо.
По ночам
Появляются настоящие СИМВОЛЫ – мясистые, честное слово…
Как только стемнеет,
Они всплывут на поверхность реки и их легко будет ловить.
Я не спешу,
Я сижу на влажном берегу своей совести,
Курю и думаю об огромной куче СИМВОЛОВ.
Они появятся, конечно, появятся…
Но как прокормить семью одними СИМВОЛАМИ?
Их истребляют, их осталось не очень много,
И я отпускаю
Их обратно.
Дети рыдают.
Вчера они съели последнюю МЕТАФОРУ
И символически отказались от СИМВОЛА на завтрак.
Моя жена ворчит:
Посмотри, твой коллега поймал воооооот такую ГИПЕРБОЛУ –
И показывает руками какую –
Какая счастливая
У него жена!
А ты на что способен?
У детей в желудках давным-давно не было АЛЛЕГОРИЙ,
Они плохо какают,
Доктор прописал им МЕТОНИМИЮ.
Я извиняюсь,
Говоря, что размер не имеет значения,
Что для всего нужен определенный момент,
Что вот если бы мне дали отдохнуть,
Они бы тогда увидели,
Они бы, блядь, тогда увидели,
Как я тоже могу поймать жирные ГИПЕРБОЛЫ,
Сильные МЕТАФОРЫ,
Остроумные ЭПИТЕТЫ,
Я мог бы убить за это,
Все бы увидели…
Река воркует как птица,
И это не очень хорошее сравнение,
Что река воркует как птица.
Где рыба, рыба-то где?
Я оглядываюсь… Нет ее…
Кладу удочку рядом,
Начинаю дремать и мне снятся далекие страны
И львы.
СОН ИОНЫ
Мои волосы превращаются в тысячу клювов,
что втыкаются в сновидения через подушку,
и каждый следующий сон
нависает надо мной
словно потолок…
Я просыпаюсь
и стреляю пулями улыбок
из безопасного укрытия своих губ.
Мои зубы – минные поля,
и твоему языку опасно передвигаться по ним.
В такие минуты я могу любить так,
словно молюсь,
словно убиваю за тысячу долларов.
КОМПРОМИСС
Я верю в то, что видел бога,
он стоял у входа в почту,
держа мою книгу и бутылку водки.
Я верю, все, что происходит, ничего не меняет,
и порядок вещей останется прежним.
Я верю, что поэзия появится в криминальной хронике,
и в конце новостей
ведущие будут в рифму рассказывать об ограблении банка
или об убийстве на почве ревности,
или обсуждать какой-нибудь поступок Джастина Бибера,
или, хуже того, его карьеру,
а прогноз погоды
превратится в разновидность буколической поэзии.
Я верю, что любовь,
иногда существует,
это твой поцелуй обогащает
эксклюзивную историю моего тела.
Я верю, что в наше время
играть в зло
скучно
и только депрессивные банкиры практикуют это.
Я верю, что человек может
умереть несколько раз в течение дня
(без перспективы ожить),
и это вовсе не является благородным поступком.
Я верю, что смерть это постыдный компромисс,
и верю потому, что тот, кто
управляет смертью, не умер.
LA-SANG
Мы должны понять,
что поэзия
это просто перемещение объектов
и нет необходимости в чем-то еще,
и когда мы хотим чего-то большего,
это большее появляется,
но оно все равно меньше поэзии.
МЕНЯЯСЬ МЕСТАМИ
Эй, Бог, давай меняться местами!
Ты вместо меня,
а я на Твое место – буду Богом.
Это не так тяжело, как кажется,
Ты просто потеряешь немного в весе,
изменишь прическу, отпустишь волосы, наденешь
какие-нибудь кеды, будешь курить по три пачки в день.
Это немного скучно, но
Ты вполне сможешь сойти за умного
(не разрушай мой имидж, я с таким трудом его создавал).
Ты будешь каждое утро просыпаться в старом доме,
и раз за разом слушать голос зовущего Тебя
временного отца (того, что сделал меня).
Ничего, если он будет читать Тебе нотации
о твоем безделье,
может Ты и исправишься.
А в это же время я буду ласкать ангелов,
учиться манерам, свойственным Богу,
и разглядывать Землю через
озоновую дыру,
как если бы я хотел что-то изменить,
как если бы я мог что-то изменить.
В конце концов,
как если бы я вообще существовал.
Я ПРОСЫПАЮСЬ
Я просыпаюсь,
восстанавливаю соединение тел и их теней,
осторожно выделяя точку их пересечения.
Я знаю, что бессмысленно,
но я просыпаюсь
и нервы мои становятся более чувствительными
к жизни,
и, одновременно, хрупкими к сновидению.
Я поэт, занимающийся продажей собственного невроза,
ничего не требуя взамен.
Я просыпаюсь
и начинается ветер
в скрипящих ветвях – в голосах
исчезающих границ между смертью и поэзией.
Я буду смотреть новости по телевизору,
любить суперзвезд и супергероев
(как вы знаете, это всегда взаимная любовь).
Итак, я просыпаюсь,
удлиняя мысли и
укорачивая слова,
так что каждую следующую секунду
возвращается память о секунде предыдущей,
достигшей покоя святости
(это особое время, когда неловко не быть святым).
Оттачивать логику вещей
и служить им.
Делать поэзию более точной, чем математика,
и более невыносимой, чем голод…
Убаюкивайте свои сны, друзья,
я уже здесь
и я просыпаюсь…
ПЯТЬ ХАЙКУ
***
Я всегда хотел писать плохие стихи,
Но это требовало титанических усилий.
И я был вынужден писать только гениальные.
Мой папа
Так облысел,
Что было видно мысли в его голове.
Моя мама
Выщипала все свои печали,
Оставив лучшие – те, что болят.
***
Весна.
Птицы ставят «лайки»
деревьям.
***
Это предполагалось стать стихотворением,
Но пока я тянулся к столу,
Все забылось.
Луиза Глик. Притча о заложниках (перевод с английского Дмитрия Кузьмина)
ПРИТЧА
Две женщины
с одной мольбой
припали к стопам
мудрого царя. Две,
но лишь одно дитя.
Царь понимал,
одна из них лжёт.
Что ж, он сказал,
это дитя надлежит
рассечь пополам,
и ни одна из вас
не уйдёт с пустыми
руками. И достал
свой меч. Тогда
одна из двух
отказалась от доли:
это был знак и урок.
Предположим, ты
видишь, как твоя мать
разрывается между
двумя дочерьми:
что ты можешь
сделать, чтобы
спасти её, кроме как
быть готовой себя
уничтожить – тогда
она будет знать,
какое дитя настоящее:
та, которой невмоготу
мать рассечь пополам.
Из книги «Арарат» (1990)
ГОДОВЩИНА
Я сказал, ты можешь свернуться в клубок. Это не значит,
что надо холодными пятками хватать мой член.
Кому-то придётся тебя научить, как ведут себя в постели.
Я так думаю, тебе следует
держать свои конечности при себе.
Глянь-ка, что ты наделала:
зверёныш уже шевелится.
Но я не хотела твоей руки вон там.
Я хотела твою руку вот тут.
Ты должен обращать больше внимания на мои ноги.
Ты должен представлять себе их,
когда видишь хорошенькую пятнадцатилетку.
Потому что там, откуда они начинаются, есть кое-что ещё.
Из книги «Среди лугов» (1996)
ПРИТЧА О ЗАЛОЖНИКАХ
Ахейцы сидят на пляже,
гадая, что делать после войны. Никто
не хочет домой, назад
на свой костистый остров; все хотят ещё
немного вот этого, как оно под Троей,
такой вот жизни на грани, когда каждый день
полон неожиданностей. Но объяснишь ли
всё это тем, кто остался дома, для кого
война – уважительная
причина отсутствия, тогда как исследование
своих способностей сойти с проторённой дороги –
не особо. Ну хорошо, об этом
можно подумать позже; перед нами
решительные мужчины, они оставляют
домыслы и догадки женщинам и детям.
Размышляя о всяком таком под жарким солнцем,
наслаждаясь новой мощью в руках, как будто
позолоченных сильнее, чем дома, кое-кто
уже помаленьку скучает по семьям,
по жёнам, было бы интересно увидеть,
состарились ли они за время войны. А нескольким
даже слегка тревожно: что если война –
всего лишь мужской способ вырядиться невесть кем,
игра, придуманная, чтобы уклониться
от глубоких духовных вопросов? Ах,
дело было не только в войне. Мир вокруг уже понемногу
звал их, опера, начинавшаяся громкими
военными струнными, заканчивается текучей арией сирен.
Там, на пляже, обсуждая возможное расписание
возвращенья домой, никто бы и не поверил,
что десять лет займёт путь на Итаку;
никто не предвидел десятилетия неразрешимых дилемм – ох уж
эта безысходная маета человеческого сердца: как разделить
всю красоту мира на разрешённую
и неразрешённую для любви! На брегах Трои
разве могли знать ахейцы:
они уже заложники; кто однажды
промедлил пуститься в дорогу, тот
уже полонён; разве могли они знать,
что из них, из горстки,
кого-то навсегда удержит страсть к наслаждению,
кого-то – сон, а кого-то – музыка?
Из книги «Среди лугов» (1996)
ЗАРЯ
1.
Дитя просыпается в тёмной комнате
с воплем Где же мышка, где же мышка
– его языка никто не понимает вообще:
Мышки нет никакой.
Но зато мишка, весь из белого плюша, –
мишка вот он, рядом с ним в колыбельке.
Годы и годы – вот сколько времени миновало.
Всё как во сне. Но мышка –
так никто и не знает, что стало с нею.
2.
Они только что познакомились и уже
спят у открытого окна.
Отчасти для того, чтобы разбудить их и убедить
в том, что про эту ночь они всё запомнили правильно,
в комнату хочет проникнуть свет,
и ещё чтобы им показать всю картину, контекст:
носки, полуприкрытые грязным ковриком,
одеяло, вышитое зелёными листьями, –
солнечный свет выделяет
вот это, а не всё остальное,
проводит границы, уверенно, но без самоуправства,
затем, помедлив, описывает
уже в мельчайших деталях,
дотошно, как в выпускном сочинении,
даже пятнышко крови на простыне –
3.
После они расстаются до вечера.
И уже потом, в офисе, в магазине,
начальник недоволен данными, которые он предоставил,
на ягодах плесень под верхним слоем,
так что приходится удалиться от мира,
даже продолжая как-то участвовать в нём, –
ты приходишь домой и лишь тогда замечаешь плесень.
Слишком поздно, иными словами.
Как будто
солнце тебя ослепило на миг.
Из книги «Деревенская жизнь» (2009)
ДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ
Утомившись сельской жизнью, король с королевой
возвращаются в город,
все маленькие принцессы
тарахтят на заднем сиденье,
распевая песнь бытия:
я есть, ты есть, он, она, оно есть –
но не будет, конечно,
никакого спряженья глаголов в машине, о нет.
Кто скажет о будущем? Никто ничего не знает о будущем,
даже планеты не знают.
Но принцессам придётся в нём жить.
Что за грустный день получился из этого дня.
Мимо машины проплывают пастбища и коровы;
выглядят мирно, но в этом покое нет правды.
Правда в отчаянии. Вот что
знают мать и отец. Все надежды потеряны.
Мы должны вернуться туда, где они потеряны,
если хотим их снова найти.
Из книги «Зимние рецепты от коллектива» (2021)
Путешествие с томиком Леса Маррея
ПУТЕШЕСТВИЕ С ТОМИКОМ ЛЕСА МАРРЕЯ
1.
Дорожные попутчики остаются с тобой навсегда,
как бы ты ни вглядывался в горы или облака, плывущие под крылом,
как бы ни смотрел вокруг, стараясь их запомнить,
ты вспомнишь только молодую мать, заправляющую за ухо прядь волос,
бортпроводницу, посреди рассказа о спасательном жилете
вдруг прервавшуюся на мгновение, вспомнившую нечто,
как будто увидевшую это за окном. Вселенский океан,
воскрешающий наши человеческие связи, и стирающий память о местах,
которые мы посетили – это мы сами, стоящие так тесно,
так крепко обнявшись, в плотном кольце своих собственных рук.
2.
Оказывается, я не умею писать стихи
на листке в блокноте или на экране телефона.
Я не вижу их целиком, и теряю ощущение пространства,
а вместе с ним свободу говорить.
Прокрустово ложе крохотного листка
обрезает не строку, а мир вокруг нее,
не слово, а жизни и смерти, которые оно означает.
3.
Чужая женщина моет окна в комнате.
Окна большие, такие мне уже не под силу.
Слышу плеск то ли воды, то ли пролетающих стрижей,
трепетанье их гибких пластиковых крыльев.
В комнате запах горячего металла – ослепляющих солнце карнизов,
наивный запах моющих средств, бензин и скошенная трава газонов.
Испытываю непривычное чувство: ведь это я должна мыть эти окна,
я столько лет мыла окна и делала это легко, играючи, как и многое другое.
Удивительно, что я не сделала множество вещей, которые могла сделать –
не покоряла гималайские вершины, не проводила рукой
по обшивке космического корабля, не наблюдала за обрушивающимися айсбергами.
Чужая женщина напевает, когда моет окна, которые помнят мои руки;
густой зной возвращает мелодию в комнату.
Как же так – жизнь почти на исходе, но это не я прохожу арктическим курсом,
не огибаю мир вслед за цветением весенних трав.
Даже эти окна, которые становятся все наряднее, все яснее и прозрачнее –
больше не принадлежат мне, улетают, исчезают в расплавленном солнце,
проходящем так далеко, молча, с удивительным безучастием к растерянной мне.
4.
Я привыкла к тому, что если посмотреть на запад,
то можно увидеть дальние заводы,
крохотные, будто гномьи домики, транспортеры и полосатые трубы.
На севере, если присмотреться, видно море,
лежащее тонкой, всегда темной полосой, и серебристые облака.
На юге лежат терриконы, на востоке – дома и дороги.
Но там, где я родилась, на юге, на востоке и на западе – горы,
только одни горы, поросшие лесом.
Когда я в первый раз увидела солнце, которое поднималось не из-за гор,
как это написано во всех настоящих сказках,
а просто из-под земли, то меня охватил страх.
В пять лет странно осознавать устройство мира,
равнодушное движение светил, необязательность собственного существования.
5.
Читаю стихи Маррея и познаю новую Австралию.
Не ту, с вечнозелеными муссонными лесами и саваннами,
а иную, в которой я не была, о которой ничего не знала.
Просторы полей и закаты в седеющей хмари. Рыбаки в оплывающем солнце,
рабочие в комбинезонах, прикладывающие руку
к лицу козырьком, их взгляды, как лазерные указки,
пересекающие пространство друг друга. Огромный континент,
покрытый, как паутиной, взглядами молчаливых людей,
не поющих, не говорящих, не протягивающих друг другу руки.
То, что я пишу, должно быть когда-то будет прочитано
человеком, никогда не бывавшим в Эстонии. Что он найдет
в моих стихах, какую страну? Что поймет, прочитав,
увидит ли что-то еще, кроме скорби, одиночества и печали?
Из темноты
***
когда сам становишься братской могилой для прежних себя
когда превращаешься в гулкую комнату
полную разными голосами
что остается делать кроме как вынимать их и выпускать
расправлять крылья голубиным заморышам
гладить между ушей бывших белых кроликов
***
Этот страх звериный – не мой,
но он ко мне применим.
Страх на исподе дня, с первым лучом,
разымающим зевы трещин на потолке.
Двусмысленны силуэты.
Вещи молчат о своем естестве.
В чем суть настольной лампы?
Что скрывает нутро гитары?
Атлантовым бременем валится день:
Как удержать всё вместе?
Как не распасться?
Но мир упорно являет себя
в четких штрихах дождя,
пыльных стеклах,
слюдяном крылышке меж оконных рам,
остове незадачливого воздухоплавателя.
МЕДИТАЦИЯ 1
Как, чувствуешь что-нибудь
в своей глубине, на дне,
в илистой, тинистой, жестяной,
глинистой этой юдоли?
Чувствую колыхание водорослей у виска,
чувствую трепыхание невидимого мотылька,
что задел крылом кромку омута,
по воде пустил круги,
как топорщатся жабры, как движутся плавники,
и совсем не чувствую хода мыслей.
***
Вот о чем мы никогда не будем говорить, моя родная:
о вкусе его спермы, вкусе его пота,
о секундном таинстве, когда из его чресел в твое лоно,
когда явился смысл из пота и конвульсий,
о первородном смысле,
позволяющем сказать «зачала», «чресла», «чадо».
О том, что весь наш секс остался просто сексом,
бессмысленностью поступательных движений,
пустым заводом механической игрушки,
ибо
не углубил, не опылил, не сблизил.
О низложении надежд,
о возложении вины.
О древнегреческих страстях,
стабильно воспроизводимых,
непереводимых на язык две тысячи десятых,
о человеческом стыде
за перепончатую тварь внутри,
животном страхе,
животной радости оргазма,
о памяти околоплодных вод.
О том, как ты уходишь в свою женственную зрелость,
я остаюсь с бесплодными словами,
импотентными стихами,
немым мычаньем порождающих значений
по эту сторону опыта плоти.
МЕДИТАЦИЯ 2
они говорят: суочавање
очи в очи
глаза в глаза
загляни в большие глаза страха
что ты увидишь там
как не свое отражение
***
Я пуста внутри
Я пуста, пуста,
мой любовник,
мой мальчик
Пориста пустота
Это страх из меня вовне глядит
Известковая
раковина
песчаник
зерновье
перепонка
мембрана
То не влажная податливость розовой оболочки
не шероховатое нутро цветка
не щупальца настоятельного узнавания
Мальчик мой, я совсем жива
Это нежность
пóлнит поры мои
изнутри
Потому-то эта любовь
не укоренена
смешна
просыпана бездарно и щедро
и нужна
мне
***
Плоть моя, боль моя,
как зовется то, что осталось здесь
и глядит в меня
очами студени и озноба
волглым взглядом стекла и страха
Как наречь тебя,
и есть ли смысл в неумолкании
Там, где волнуют муть,
поднимают взвесь,
не ищи меня,
я ушла и не стану
Где лучится свет,
вызревает тишь,
там мой пристанок
Благости, коснись меня
пальцами нежности и прохлады
Если есть покой, то я верю, он тебе подобен
Блажь моя
Утешь меня
Обойми меня
и прими меня,
как никто не примет
МЕДИТАЦИЯ 3
Так день за днем созревает рожь,
так замедляет время свой бег,
так тяжелеет цветок медуницы,
так сидишь и ждешь,
пока
проклюнется хрупкий росток,
латунный побег
и в нем –
голое сердце.
***
Новая весна, я обживаюсь в своем теле,
как недавний квартирант:
подмазать петли, затереть надтреснутые половицы,
проветрить простыни.
Мои суставы – выводок разлаженных пружин,
но
поношенное сердце по-апрельски замирает.
Значит, можно длиться.
Новая весна, и тонкопалые вишневые побеги
над замшелыми заборами
упорно утверждают вечный распорядок.
И заходятся в неистовом кипении магнолии,
необратимо, несгораемо, неопалимо,
как жизнь сама.
2013 – 2017
В мире, где нет огня
***
между тонкими кромками проляжет дорога из сна
так мы и пойдём по ней
вот мой разговор с тобой.
откровение-борщевик, лопух-открытка
или тоньше...
как ты говоришь ко мне – тонкая гора.
прозрачный человек, пересекающий реку в моей ладье.
меня зовёт к тебе серебристый паук моих глаз,
золотая пчела близкого горизонта.
но больше – тихий камыш из невзрачных перьев,
пакет на сдачу, чтобы сделать из него что-то полезное,
чтобы молчать.
***
как это боль целого поля
под крышкой-жёлудем
...или ягнёнок в чепчике
я так люблю тех кто болен
и плачу от невозможности
быть твоей мамой,
сказать «ну»,
приоткрыть форточку
бережно
...или пение бабочек
***
Мне нравится быть такой радостной, как проталина,
прятаться от тебя в комнате, полной разного света,
говорить своим настоящим голосом,
то есть молчать-и-смеяться...
Пока ты заводишь счёт голубых платочков, весенних бабушек
и воробьи надуваются ситцевой занавеской,
меня под обе руки поведут куда-то
белые блики – шаги начинающихся растений.
Я не успею зажмуриться, прежде чем мы совпадём с прохожим,
и отражения вдруг повиснут, как на доске почёта,
в любви и молочных зубах.
***
Анна Яна Алиса Мария Татьяна
ваши голоса в ДНК моих дневных занавесок.
и когда я их снимаю с крючков для стирки,
я в зеркале вижу своё отражение:
оно всё состоит из звука
и зеркало не справляется.
зеркало вдруг превращается в рыбу
с блестящей монеткой в брюхе.
на эту монетку можно купить сто сорок томов айги:
одним ребром она ударяется звонко,
другим – беззвучно.
так и ваши голоса...
***
потерявшаяся синичка
в платье для пациенток стоматологической поликлиники
куда мне тебя вести?
ты – письмо, подписанное розовым снегом
и молоком на тончайшей бумаге
в мире, где нет огня.
Визуальный снег
ФРАГМЕНТ
Дома жарко, и всё зависает, обнажая структуры:
пыль на свету как деревья без листьев как смерть –
киноплёнка сгорает, когда ты не смотришь;
рука не почувствует руку, не сохранит ощущения,
если не думать о том, как ты чувствуешь руку что ветер,
иначе – засвеченный кадр и блики, провалы.
Оборванный провод на крыше никто не заметил.
Мы же не голуби, так что какое нам дело,
какое нам тело дано и какая-то память. Какая нам память
иная по сути своей и по форме движений движений.
Только мы говорим: «Аз есмь Сущий», – но знаем,
что кадр не свет, потому что он правда, а свет происходит,
оставляя нам след и сомнение в том, что длина означает.
«...кино – это правда 24 раза в секунду». Здесь есть ошибка:
бессмысленно «было» – не видно конца и края.
<...>
ПЕСЕНКА
М.Г.
сердце есть коробочка, потряси немножечко
говорят, дыхание – воздуха дрожание
так что замедление вроде задыхания
не теряй движение кровообращения
повторяй движение кровообращения
чтобы не склонила смерть свою головушку
на твою грудинушку
чтобы не сдавила смерть твою грудинушку
тяжестью головушки
ДОЖДЬ
Куда попадают встретившиеся с землёй;
вокруг меня есть прохлада, но есть ли она сейчас,
или она во мне – я просто не замечал?
«Идёт» не вполне корректно, скорее «выходит» или «за ним идут».
Нестабильный язык провожает время, у них завязывается роман.
В комментариях замечают: «Созависимые отношения».
Прохлада, нахлынувшая сперва, отступает, уступая место иному.
Оно закрывает зонт и подходит к границе, откуда видно:
в перевёрнутом мире не я совпадает с телом, оно – со мной.
***
вот мы белые солдаты
вот мы красные солдаты
вот могилы безымянны
лист, трава, плита и камни
холодно железной ветке
позвонки хрустят у ветра
птичка песенку поёт
ОПТИЧЕСКИЕ АФФЕКТЫ
Ане
керамические котики как бы хрустят – и тепло дрожит:
так что напряжение света, обтекающего раскалённый
газ, – дело маленьких лапок подземных котят;
в тектонических сдвигах повинна конкретная кошка –
ей интересно, насколько запутан клубок, для нас
служащий домом-клеткой. бог зовёт её Ариадной.
***
хочу каждому человеку сказать: забудь
меня вычеркни из себя
как вода – форму ветра длиной волны
обращающейся в ничто но стачивающей ландшафт
Каранида: попытка прочтения
КАРАНИДА: ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ
Тем легче, что речь идет
о двух разобщенных в пространстве
географических названиях, сводимых к одному,
их можно рассматривать как последовательность сообщений
и прочитывать как текст. Еще легче видеть,
что подобного рода текст кажется бессвязным.
Напрашивается вывод по меньшей мере
о некоей «логомахии», своеобразнейшей «войне языков»,
свидетельством чему является не только различное
языковое происхождение топонимов-знаков,
но прежде всего заключенный в них
всепобеждающий стиль экономии слов.
Кажущаяся бессвязность текста –
функция его эллиптичности.
Формулируя грамматически – скрадывание текста,
его сокращение до отдельных семантических единиц,
образует вокруг них «пустое» пространство –
пространство эллипсиса,
царство подразумеваемого смысла.
И если прочно держать во внимании данный факт,
становится очевидным, что с этим связано
всякое затрудненное понимание: так эллиптичен «Бог»,
так эллиптична «поэзия», так эллиптичен «ландшафт».
Вот почему ландшафт как целое, которое больше,
чем сумма его частей, больше целого мира –
благодаря таящейся в нем возможности текста
и благодаря неистощимой способности
открывать в себе текст.
Лишенная, на первый взгляд,
когнитивного содержания, «чистая» топика
отнюдь не лишена когнитивной ценности,
поскольку то, что пережито, утрачено и забыто
(или, будучи семиотически упорядоченным,
по тем или иным причинам вынесено за скобки),
продолжает подразумеваться. Как раз оно-то
и подлежит прочтению.
Кажется, что, еще не прочитанное,
оно уже поддается подсчету. И не без причины:
численная измеримость – условие существования топики.
И лишь в меру метафорики говорим мы об атопии –
о дали, ускользающей из любой топики,
подобно тому как линия горизонта
отодвигается по мере приближения к ней.
Чаще всего именно топоним, и чаще всего подспудно,
выполнял роль числового, и одновременно –
понятийного, предела, позволяющего «ухватить»,
«поймать» даль. Иначе говоря –
зафиксировать ее, «привязать», «пристроить» ее к месту,
заклясть ее с помощью ее называния.
Соответственно –
в топонимически «схваченном» пространстве
атопичная по своей сути даль
(без которой, кстати, немыслим никакой ландшафт)
не может не находиться в отношениях
взаиморазмещенности и соположенности.
Означающее, способное занять место любого означаемого,
она становится указателем для новых точек отсчета.
Через топоним она обнаруживает
устойчивую и конкретную семантику
и, что более примечательно и не менее удивительно,
сохраняет ее, невзирая на весь
последующий технический прогресс,
изменяющий само представление о дали.
Теперь уже приходится о ней повторять,
что она испещрена туристическими маршрутами,
коррелирует с расписанием рейсов
и ее легко можно покрыть, сообразуясь
с денежными издержками и затратами времени.
В чем же состоит местная достопримечательность?
Местная достопримечательность – именно то слово –
больше, нежели в чем бы то ни было, состоит в том,
что наличествовавшее ранее как даль
ныне таковой не является,
но сохраняет в данном контексте смысл дали.
Этим даль обязана акту наименования. Благо, что в сумме,
помимо пространственных характеристик, она обретает
«живое», связанное с временем
(неспроста у нее цвет руины),
измерение – историческую глубину.
Уже постфактум подобная семантическая
разработанность пространства делает нас сведущими в том,
как далекое может определяться с помощью близкого,
а близкое – с помощью далекого.
Текст обретает контекст.
И единственно учитывая контекст,
позволительно вопрошать о границах, тонкостях
районирования и т. д. Речь идет, совершенно очевидно,
о структурированности пространства смыслом.
Так, для жителя Iabloana Veche
озаботиться отличием от других –
естественное мирское занятие,
бытие которого по соседству с новоприбывшими,
пришлыми обитателями Кирпицкой стороны
в идеале могло иметь, и скорее всего имело,
тот самый (по Хайдеггеру) характер хранения дистанции.
Сокращение дистанции в силу известных причин –
социальных, экономических, каких угодно,
(вообще и в частности приведших
к сращиванию указанных населенных пунктов) –
вполне осязаемая тенденция
последних ста-полтораста-двухсот лет.
И как ни короток этот промежуток времени,
он дает нам возможность постичь,
каким образом происходит расщепление понятия
«Кирпица» и смещение семантически идентичному ему
понятия «Каранида» (от румынского cărămidă – кирпич)
на совершенно иную местность – за горизонт.
Кроме самоочевидного усмотрения, что Каранида –
номинальный, в буквальном смысле,
результат подсознательного желания
во что бы то ни стало (то есть пусть даже и номинально)
сохранить дистанцию при ее неизбежном сокращении,
это не более чем выраженная в акте наименования
навязчивая идея, греза, чуть ли не форма бреда –
вопреки очевидности, ничего похожего на то,
что могло бы приниматься как должное.
И если уж говорить о характере хранения дистанции,
то в самом акте наименования,
обладающем направлением,
подвижностью и необратимостью,
скрыт механизм отчуждения (или освобождения),
призванный объективировать реальность,
то есть – задать ей дистанцию.
Сокращение этой дистанции –
и здесь мы присутствуем при рождении нового топонима –
обратно пропорционально его смещению.
Почти законоподобное утверждение гласит:
два разобщенных в пространстве понятия,
обозначающих разные местности (Кирпица и Каранида),
можно расценивать как одно,
состоящее из двух семантических слоев,
горизонтально смещенных друг относительно друга.
Благодаря такому – пространственному –
смещению семантических слоев мы видим
разве что только глубже и отчетливее.
Со стереоскопической точностью, недоступной глазу,
мы видим разом как бы обе местности. И мы видим,
как, уже несущие различную смысловую нагрузку,
их планы взаимно уничтожаются
и перекликаются.
Что такое пространственное смещение –
это еще и перевод с языка на язык (Кирпица – cărămidă),
одновременно – транскрипция (cărămidă – Каранида),
при всей парадоксальности графического выражения
и гигантской иллюстративности, каковой служит
само пространство и весь сопутствующий ландшафт,
не требует подробного разбора.
Трудно прийти
к столь фантастическому допущению,
но если предыдущие соображения верны,
то именно так транспонированное и транскрибированное,
пусть и с небольшими потерями, слово cărămidă
соответствует существующему поныне топониму –
порождению грезы и бредовому образованию,
молчаливому примеру самой себя –
дали уже не столько а-топичной,
сколько у-топичной.
Потому-то, надо полагать,
лучший способ натолкнуть на мысль о ней –
сказать нечто настолько далекое и абстрактное,
насколько и не имеющее отношения к делу.
В то время как утренние лучи
застревают где-то в верхних концах улиц,
освещая нагромождения домов,
огороды, коровники и овины Кирпицкой стороны,
Каранида, остающаяся за холмом, – еще в тени.
Тень как проекция освещенного пространства, Каранида
есть выворотка образа наружу – вовне и вдаль.
Это – какая-то, и невесть какая,
иноместность. По причине общей своей проективности
она как бы не на своем месте. Она –
придерживаясь нашей терминологии –
гетеротопична. Находящаяся, что удивительно,
всего в получасе ходьбы на север, точнее – северо-запад,
она представляет собой не что иное,
как следствие определенного смыслового отношения,
отобразившегося в пространстве и его топографии.
Проще говоря – то самое «пустое место»,
куда некогда складывался неудобоваримый смысл, –
то, чему предпочтительно было бы находиться далеко,
и то, к чему до сих пор так и хочется присовокупить
частицу «аж».
В структуре ближайше наличного,
как нельзя лучше передаваемой (с вниманием
к исследованиям Вильгельма фон Гумбольдта)
личными местоимениями через обстоятельства места –
«Я» через «здесь», «Ты» через «вот», «Он» через «там», –
«Он», безусловно, «там», в Караниде. То есть «Он» там,
где «Его» нет.
Громадное сползание земли,
словно в извечной попытке горизонта утратиться,
образует высокий крутой обрыв,
за которым начинается Каранида. Местность,
протянувшаяся в почти широтном, поперек
привычного рисунка рельефа, «умышленном» направлении,
она выворачивает наизнанку навевающий с севера ветер,
превращая его в душистый пучок чабреца
и шорох тысячелистника. Дух кормилицы,
смахивая подолом платья утреннюю росу,
пробирается вниз, через травы и зыби,
к развалинам заброшенной фермы.
Когда-то развалины эти были цветущим птичником
и вся долина походила на гусиный луг. Еще и теперь
ощущается ее буколическое очарование –
сдобренное, конечно,
изрядной долей воплотившейся здесь метафизики.
В рассеивающемся перламутровом сумраке,
выбредающий из-под тени,
мы наконец открываем этот недвижный мир –
ясный, как утро, и незримый, как пение птиц, –
скопище оцепенелых линий, оживающих
в неповторимых, бессчетных эффектах освещения
и высвечивающих неопровержимую логику знака:
не столько текст, сколько текстуру – то,
из чего соткан его воздух, его призрачные черты,
его ландшафт отсутствия.
Не показательно ли, что, обозначая отсутствие, Каранида
и в самом деле имеет иконическое сходство с обозначаемым
еще и потому, что cărămidă, буквально, «кирпич» –
это, вдобавок, то, что ставится на меже; или то,
что толкуется как «стена».
Являясь полаганием границы посредством понятия
(или, если угодно, числа), эта «стена» связана
не с пространственным способом присутствия,
а с нашим воображением и нашей памятью.
Не иначе, если не так,
маркируется граница в культурном ландшафте.
И принцип полимасштабности культурного ландшафта
лишний раз подтверждает, что при таком видении
граница не только не окончательна,
не только не разделяет,
но, напротив, – что ее как бы и нет.
Синтаксис, всегда готовый замкнуться,
устремляется здесь к своему
асинтаксическому пределу.
В какой-то мере полимасштабность
соотносится здесь с принципом интертекстуальности –
синонимом почти-бесконечности,
помогающей лучшему осмыслению исключительно –
а разве может быть иначе? – ее самой.
А именно: как экзистенциальная философия Хайдеггера,
семиология Барта и поэзия, скажем, Дилана Томаса
может иметь отношение
к глухому, безлюдному захолустью,
краю наших тринадцати лет,
куда мы ходили в тутовники, за листьями
для шелковичных червей.
И однако самое время напомнить:
эта местность – в силу не просто топографии,
но прежде всего варианта ее прочтения –
находится, безусловно, в Европе.
Резюмируем сказанное.
Ускользающая из любой топики даль
может быть «пристроена» к месту благодаря
акту наименования.
Она сохраняет реликтовый характер,
будучи семантически связанной с этим местом,
отчего последнее раскрывается
как чистейший пример гетеротопичности:
даль дает состояться захолустью.
Именно так в век увеличения скоростей,
уничтожения расстояний и исчезновения понятия дали
она ощущается («виднеется») как ее отсутствие.
И без того возведенное в ранг обобщения,
объективированное подобным образом отсутствие
(чистая топика) едва-едва поддается чтению: Каранида.
Та самая даль, в которой одиночество поэта
обретает свои географические координаты,
но допускает дали
быть далекой.
2005
Ещё одна картография
ПОСЛЕ ОДНОГО МАЙСКОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ты – печеночный признак праздника,
машина ангелов,
на которой они каждый раз заезжают в
нашу обработку, очищая кровь листьев
мы – забытые подворотни тех эпистемологических нарезок,
о которых никто не напишет, не придёт к ним и не поставит вопрос:
а есть ли дерево, которое ещё никто не видел?
призракология тяготеет к земле и к нашим зимним прогулкам,
невозможность их описать похожа
на видео по камасутре, где одетые в
зелень акторы и актёры показывают
геометрию жизни
покупают билеты до купчино, ищут дом сорок девять на чётной стороне,
ловят новогодние скидки, не обращая
внимания на патлач киберготики, бывающий здесь каждую пятницу
далее ускорение: мох и трава всё те же,
поехали в пушкинские горы, пишет поэт,
он включает радио эрмитаж и сообщает
всем, кто сидит в машине:
не люблю элитаризм, они уже не приедут,
начало текста не прочитаешь никогда заново, подобная боль есть и в животе
сделай тише – ответ, летними остались молнии и композиция,
пулковские высоты и бастарды обочин, холмы,
где признаки праздника давно
свидетельствуют о завершении звёзд
НАДОЕЛО ПИСАТЬ ВСЕ 25 БУКВ. ПОСТАНТРОПОЦЕНТРИЗМ
к сожалению, имя не псевдоним, не топос, не эпитет, не кличка, не брат
тяжесть паспорта
лучше бы звали им – [вставить латинское название папоротника]
мне один день и двенадцать лет,
позади – четырнадцать миллионов истории
которая им не принадлежит
ПРОМЕДЛЕНИЕ, ОСЕЧКА
порвать рецепт наполовину, от крема бумажка с противопоказаниями и прочим
не дописать за день ни одного поэтического текста, вообще
не дописать ни одного текста
забыть, что хотел сказать про капиталистический реализм
депрессию, странное и жуткое и прочее
забыл о нескольких временах в английском
и в русском в целом и прочее
тоже забыть
некий сбор об эпосе, который приходится
держать в голове
а будильник так хорош, что говорит спать осталось семь часов
МЫ УЖЕ ПОГОВОРИЛИ НА КУХНЕ
береги свою кожу
она сидит так глубоко
что не достать её ножами
не исправить в ней орфографию
только одно упражнение сделать
можно
– акт вглядывания происходит
по длящимся структурам
повседневности, но это не тени
их слуги давно языки оттачивают
в частности, две минуты паскаля
ОПРАВДАНИЕ НА СЛУЧАЙ ПРОГУЛА
почему не пришёл на введение в
онтологию и метафизику
как понять что это часы не-приема
что умирающие становятся прекарными
животными
навсегда в пространстве невмнимания
и денег без телефона
но́мера без оплаты
звонки без ответа
иду́ к тебе (о-о-о)
разрыв будет рисунком
– а я тоже так думаю –
в школьном дневнике
почему не пришёл
но и ветер, он всегда х.евый романтический субъект
и дурной читатель
вот его спросите
в коробке пустой
где мама и папа становятся фото
становятся на фото вместе
наитие
он всё знает и ему всё открыто
это нас просили законспектировать
не пришёл потому что не туда
себя отправил на завтрашний день
забывая о контингентноcти
А СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ НА ПАРАТАКСИСЕ
1.
рабочая система окна стала щекой подруги
мудрая гавань модуляций эроса скрыта глагольной
формой журнала о пальцах утреннего рейса до
структуры речной обочины во время щелчков двух
ремней и снятия шапок
подойди, окно, уличные уключины заполнились голой водой
2.
молекулярное собрание двоих означает больше
первого восклицания серии грузовых фар
определение пола через потолок и потока через твоё
скольжение внутреннего проспекта хорошей фонетики
требование телесной дифракции прохождение света по воде
голова заполнилась ванной, трюк – перелить нарратив в кольцо
ПРОДОЛЖЕНИЕ: НЕМНОГО РЭПА
пустошь региона разрезанного глаза была
склейкой корешков библиотеки дк
реальные футбольные фанаты нашивками
выходили оплатой синих пятен лица-мяча
у брата онтологический дриблинг одной ноги
в посёлке городского типа где
тренировки заметок о великолепной жизни
два раза в неделю просто позвони брат
паратаксис той речи до сих пор сглаживает
траву тела материальным основанием слова «б.ять»
ТОЖЕ ТРЕНИРОВКА, НО УЖЕ В СРЕДУ
плевок интенсивен, он забывает, что –
южные карты виртуального его родина
как и жаркое рождение ферганы
братство, трава, сон, ты идёшь мыть ноги
подожди, подожди, мы же выключали
свет головой, теперь волосы грязные
наши помой и мои
они тоже коллеги на этой пустынной поляне
свет обтекает, а трава подгорает
и субъект угарает
он тебя обнимает (жарко, что ж, совсем),
он фразу написал для тебя:
увидимся на тренировке
НЕ ТО. ИНДИЯ
помню, маленькие черви змеились
в спелом индийском манго, нагнетая тавтологию
нашей бедности
это были очень дешёвые фрукты в летний сезон –
тридцать рупий за кило
сладкое перезрелое манго, сок под кожей,
на которой сидели мухи, оставляя личинки внутри
самая жаркая картина в моей жизни, её гипербола,
чистый юг мозга: толстые насекомые на сочных манго
их жужжание вдоль повозок на рынке, тоже кожа солнца,
общий сок как попытка выйти из экономики опыта мира
торговцы кричали на хинди: спелый манго, самый лучший
знаю, как они собирают плоды: сбивают палками, чуть моют,
долго хранят в жаркой хибаре рядом с дорогой, ждут
трансфера в посёлок: тут прилетают мухи
приходи с рынка, сын, купи два кило, неужели это было?
помню, черви змеились в спелом индийском манго,
сжимая дешёвую комнату
до пределов зубов и тех глаз, что, слезясь, ещё в силах
увидеть мелкие движения скупой фактологии
того насыщения – анонимной
жарой, пищей, видом, глаголом «слышь»,
«не перевесь» и «не парься»
а в итоге заданный гобелен в оранжевый рот
опускается, но не фрукт и не кожа – беленький шрам
УЛ. РУБИНШТЕЙНА, 23
подтекст воздуха – запах макарон
«две девушки перерезали свет внутри
жары мимо пригородных ив»
а это центр
дверная ручка имени бахтина, тут мы учились два года назад
ты повесила две смешные картины в комнате и уехала
летний движ, пакеты шанель в промежутках,
лайк от самого канта
(далее, уже в машине: сладости гнёзда покидают)
Быстрый сюжет на периферии зрения
***
даже если не изнутри
даже если со стороны долетает он
мокрый клёкот в грудной решетке
рельсовых выстуков
шире и тяжелее
он приглушает
прохладные сэмплы прибытия
он сотрясает корпус
движением тайных жидкостей
проточные звуки теперь значительнее металла
пронзительней треков разрывающих Spotify
мой ненадёжный заслон
кроличья лапка на шее
кто теперь осторожная лань (?)
чьи ушки теперь на стрёме (?)
вроде я
да и ушки вроде
мои
ну так где же были они за минуту до (?)
он подошёл с востока
сырой и грузный
невидимый руль от фуры в смуглый кулак
так и просился но
не закатная степь а кромешный тоннель замыкает нас
потому-то воронкой
ладони и пальцев
прорвался кашель
сквозняки лабиринта
дует
пора отсесть (?)
ну ты даёшь Артём
ля ты какая цаца
эти реплики или
иное
остановило
нежелание показаться (?)
нежелание показать (?)
брезгливый испуг затылка
рассеянный в лоске и шорохе пуховика
когда ускользают в сторону
потревожены
и невидимое доселе
его ли
её лицо
на секундочку не лицо
а кривой ебальник
необходимости
в трудные времена
надо быть осторожней и
тише
зверята скребутся по носоглотке
(у меня это нервное потому
что люблю покряхтеть как будто болею
но не болею на самом деле
а так
прочищаю горло
когда собираюсь ВЫСКАЗАТЬСЯ
но чаще я просто кряхчу
а потом молчу)
ладно мужик
сидим
чего уж теперь поделаешь
если вычесть всю эту ситуацию
никто же не виноват (?)
лучше включи на своей магнитоле
про огонёк души
он доведёт нас туда
куда и стремятся души
в конец бесконечной трассы
под навес шашлычной Оазис
выпить по паре пив
***
метель ничего не сказала
просто толкнула в спину
не просто толкнула
а просто толкнула под-
толкнула
легонько
сходя в безветрие
вроде случайность
а вроде бы что-то значит
этот мягкий нажим
может
снова?
кроссовок вроде подмок
не по сезону значит
вжимаются пальцы за
темнеющей тканью мыска
но снег всё равно отвечает шагу
рыхлым рисунком следа
не показалось выходит
шорохи
дуновение
и вибрация
то ли дыхания
то ли
уведомления
вроде надо идти домой
пить кока-колу
покалывать
взрывами пузырьков
скучающие рецепторы
но тогда заживёт
нежный ожог ладони
в придавившем машину снеге
спят и не знают ведь
что металл не дождавшись щётки
замещает её касания белым жаром
ну или не до щекотки
когда замели
надо набрать
побольше
а то смахнут ведь
как неудобные мысли о невозможной близости
или пьяный вопрос незнакомца в ночном метро
как тут пройти
в безветрие?
чуть не спросил прохожего
вроде успел осечься
да и улица вот
пуста
просто кокетство не позволяет
выразиться
конкретнее
речь обтекает
внимание адресата
торопиться быть
метелью
движется
рассечена
фигурой прохожего на
колкие дуновения
торопится быть
короче
я не в обиде
на эти касания
можешь (?)
толкнуть
ещё раз
***
1.
небо мигнуло белым
крылоподобным
быстрый сюжет на периферии зрения
и ведь правда
не показалось
голуби
да не абы какие а
что ни на есть
символические
в такой-то дождливый день
не иначе благая весть
ох вы мои хорошие
адресованные лишь мне
гули гу
летите ко мне
намёки вселенной
воспринимаются как-то двояко если
уронить на немытый кафель полную пепельницу
вероятно кому-то хотелось чтоб дорого и богато
а погода не задалась
не пропадать же добру
ну а голуби
всё же свободны
и то хорошо
воркуют как беглые школьники за гаражами
2.
мерцает подвижный ландшафт
под слоями хрустящей фольги
угловатыми рваными хлопьями мятое зеркало
опадает на листья деревьев
на козырёк бейсболки
забивается за манжет
(лучше выбросить от греха)
а не то зачитаешься как один
утонувший красавчик
отражением топким
не будет никто горевать
невротичное око сохнет и голодает
сложнее нырять в чужое
в повторения хрупких объектов
ошибки матрицы
в двух кучерявых затылках отца и сына
и в четырёх полосках на глянце спортивных штанов
или даже в цветастых комбезах на уровне со штанами
в хромированной поверхности самокатов
симметрично везущих двух девочек
справа
слева
эпизоды семейной хроники
фоточки из альбома
ну конечно же своего
не хочется но отражаешься
в привычках отца и матери
на портрете в черной и плоской рамке
интонация comic sans:
так ты хотел?
***
Разнотравье, которого не было до
гула в коленях бегущего, поднялось
по правую руку, усилило дрожь удара
в мышечный гонг, внезапно повысив резкость –
запахи и цвета
неслучившегося дождя;
зато случилось иное: камень
пробился сквозь ткань кроссовка –
и начался отсчёт.
Если вычесть из состояния звон крыла,
несущего тепловизор к мешочку с кровью;
если вычесть немного приторной духоты
и прохладные пятна, цветущие на футболке,
двух собак, бегущих навстречу,
хозяйкин оклик
(дисциплинарный) сквозь
подробности эпизода –
его не станет.
Рефлекс плотоядной чаши – хватать и помнить;
движение тем истеричнее, чем неспешней
удаляется музыкальный пучок тепла.
Если поддаться привычке и сделать слепок,
залакируется матово и повиснет
в рамочке золочёной –
втянутся ловкие жвальца и волоски
летней кровавой мухи – крючки внимания
пригнутся к земле
дуновением от реки.
Если пейзаж
вязок и безразличен,
что остаётся бегущему? – только спешиться.
Что остаётся пейзажу? – отречься от
внешнего наблюдателя, от его
неуёмных попыток сделать свой насекомый опыт
фактом литературы;
бескорыстный предметный хаос –
своей заслугой;
наслоение цвета и запаха –
композицией.
Разнотравье (которого не было?) не исчезло
даже когда бегущий вернулся к шагу;
даже когда стопа
по чертежу скользнула,
и протектор подвинул линию на песке;
если вычесть из мира бегущего,
мир останется.
Так, должно быть, и было задумано.
Ну и ладно.
Ранее люди
***
Сон поймал ловца снов.
Веки глаз изнутри,
с моей стороны
казались лепестками
дрожащего в танце красного мака.
детство было лишено волшебства
в юности не было магии
я пью кофе, как зелье,
отводящее от меня кошмары,
мертвые, как разрубленная луковица.
Но они прорываются влажностью на глаза,
В 1518 году в душном сне фрау Троффеа видела съеденный хлеб. Там были соседи и хоровод больше похожий на огонь. Она проснулась, и все утро ей двигала тревога. От поверхностей всюду отражалась музыка сна, виделись в пляске тела. Молитва не помогала, все так же валилось меж рук. Она споткнулась на лестнице, выходя на улицу и ища помощи. Воля отвергла тело, сон не оставил тело. Каменная дорога написана широкой кистью, а смех прохожих жирный и маслянистый. тело все слушалось сон, его звук свирели и виол, мужчины кричали, а женщины – пели:
Океанический озноб
и прополотый кремль,
хворост сюрреализма,
подожженный набегами хлеба,
съеденного в 1968 году.
Это не пророчество.
Это даже не разные слова.
Просто резвые искры прыгают по нейронам и растаптывают их в тропинки.
это компоненты одного заклинания,
на губах заклинателя
должна быть разбитая кровь
Потому что у слов –
Потому что у неких из них
Потому что у них есть шипы
***
средневековый мужчина несет хворост на спине
дорога была длинна. он остановился передохнуть.
ему видятся голоса из костра: они говорят множеством языков.
что говорят ему? он не может понять.
многоголосый огонь ест, горит, говорит
между виниловым треском я слышу слова,
может быть, это прах ведьмы истлевшей
живет в языках?
может быть, заклинание против меня?
чтобы память свернулась как свиток,
чтобы я застрял здесь,
мне, казалось, я шел.
но я понял, что, это, костер.
я не мужчина? и не средневековый?
нет, я попал в сердцевину времени.
я как будто пробел между родителями и детьми
как душа входит в сердце, как оно входит в тело,
так тело должно войти в землю, а земля в бога.
мы удобрили почву смертями
и стал плодоносить мир.
странный мир:
когда он чует запах воска,
то вокруг будто застывает.
и руки его холоднее,
чем руки змеи.
звуки протяженные,
будто раздаются с зажатой педалью рояля
и развеется дым,
уже догорели когда-то последние угли костра,
но слышится треск,
а, наверное, это что-то внутри
даже, если этого нет в мире,
то точно оно есть во времени.
*
Этой ночью я видел сову.
Этой ночью я в первый раз видел сову.
и я был словно частью ее
мне казалось, что слился я с частью ее.
мне слова подарила сова:
Видишь лес, в глубине его – милая тьма
я явилась оттуда сюда
Люди здесь разъедают друг другу тела
Тишина
Тишина
Сразу две тишины
я остался с ними втроем
не звучал даже крыльев остывающий стон,
но качается ветвь-метроном
***
Читал ли моцарт декарта?
Кажется, нет. Но отец вундеркинда клал «Метод» на стул
Сыну под жопу, чтобы маленький Вольфганг доставал до клавиш
И учился учился сочинять, как взрослый.
Взрослый, в его всеохватном веществе –
Это наводнение, затопило вещи,
Но амадей не читал книги,
Чтобы сохраниться знаком.
Он написал то, что молчит:
«Я не мыслю, я просто существую, пока не кончу вам в уши»
мою кровь больше не пьют вши
они сдохли от сулемы в отравленном вине
когда я смеюсь их трупики падают с парика
на нотную бумагу.
это мой реквием: тусить и рыдать
***
Субъект этого стихотворения не развит и находится в эмбриональной стадии:
Я его вынес за пределы
И положил на подоконник,
Чтоб осеннее солнце засушило его таким.
Его крохотный рот еще ни разу не открывался, но в нем уже есть складки речи, потенциально, любой.
Солнце разбивалось о тучи, как хрустальные ноги ангелов.
Субъект размок,
Встал и пошел рыться в моем белье.
Его склизкие пальцы касались тканей, которым бормочет он:
«виниловый лёд трещит под ногами.
Они отмерзают и тянут свое тело.
Ещё пару недель назад в глазах людей были осколки, которые царапали что-то во мне.
И алая смола появлялась:
Я думал, что я – закат.
Мне виделись двери, через которые не было слышно моих слов.
Они выступали как что-то из сна,
В котором страшно, а нельзя проснуться,
Но ты просыпаешься и стряхиваешь его золу,
Но, вдруг, обжигаешься об уголь.
И только последнее слово похоже на первое:
Коса это знамя столетней войны»
В стихотворении повторяется разными образами о различии,
Тем самым все, на что оно способно – нивелируется.
Каждый текст как дереализация.
Автор безразличен к лирическому субъекту.
В этом мире он инородное тело, произведенное им же на свет в самого себя.
Как цветок, растущий под куполом бутылки Клейна.
Он сосуществует с пространством.
И теперь, как и всякий труп, он быстро мимикрирует под любую среду.
Автор построил здание стихотворения и спрыгнул с него, чтоб убить свою часть и спасти остальные.
Стихотворение могло бы быть лиричным (не смотря даже на смерть лирического субъекта)
Если бы не странная псевдотеоретическая пристройка во второй его части.
ЛОШАДЬ В ЭПОХУ ЕЁ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
маленький Ганс говорит Фрейду:
«у собаки, у лошади есть Wiwimacher, а у стола и стула – нет»
отец Ганса спрашивает Ганса:
«ты сел на измятого жирафа? как?»
Ганс опять показывает и садится на пол.
отец Ганса спрашивает у Фрейда:
«у меня красивый Wiwimacher?»
лошадь говорит Фрейду:
«твоя дочь, Анна, сводит меня с ума»
Маяковский декламирует самоубийству:
«все мы немножко лошади»
Ницше показывает усы маме Ганса.
лошадь смеётся.
Ганс говорит Германии:
«у лошади Wiwimacher внизу, как и у меня».
Рассел говорит Витгенштейну:
«в комнате нет носорога и единорога»,
Фрейд отвечает:
«это лошадь»,
его записывает Беньямин на восковой валик Эдисона:
«это лошадь» «это лошадь».
Жижек смотрит my little pony.
Ленин пишет Энгельсу:
«революция – дело не хитрое:
встал и революционируй!»;
Wiwimacher творит сексуальную революцию.
Бобби Фишер говорит Хрущеву:
«мой конь не ходит буквой г,
он растекается мыслью по древу».
Шенберг учит внука:
«мир есть совокупность фактов»,
Шостакович пинает Wiwimacher.
мама Ганса на интимные темы говорит по-французски:
«mon mari a une petite bite!»,
Гибер вслепую пишет про спид.
убийство игнорирует Ленина, добавляя в чат самоубийство, Делеза и Беньямина.
Эйзенштейн монтирует son bite на sein Wiwimacher.
Марта Грэм танцует фрейда,
Ганс съедает отца и спит с лошадью,
Фрейд курит сигару, говорит всем:
«снято! спасибо!»
THÉME
положил руку в карман гайдна
прошло пять минут и я вынул
ребенка он посмотрел своим детством
когда все преясно
без логики кроме той что есть в нем
Var. 1
Четыре инструмента вздымают звуки
и под высоким потолком, слегка ссутулившись
помещается гайдн-великан.
Он кладет в свои карманы каждого слушателя –
с первого до последнего ряда.
Он хохочет и говорит
– моя музыка будет футляром для вас.
Var. 2
Красный бархат, тепло.
Хорошо окружает со всех сторон.
забывается даже про все.
я другой: существо – эмбрион.
Но такая игра стоит больше всех свеч.
музыканты задуют их.
Через дыры в карманах вернутся в реальный мир.
забытые ранее люди:
Люди считают себя закладками мира.
Var. 3
Они обернулись на дым и кричат:
папа-Гайдн, папа-Гайдн!
останься, не испаряйся
дым журчит
Леонард Норман Коэн. Птица на проводе (перевод с английского и комментарий Александра Прокоповича)
Мало кто знает, что творческий путь Коэна начался именно с написания стихотворений. В своём творчестве он обращался как к верлибрам, так и к традиционным размерам. Его ранние поэтические сборники не пользовались особой популярностью. Музыкантом Коэн себя не считал; однажды он спел, аккомпанируя себе на гитаре, своё стихотворение «Сюзанна» своей подруге Сюзанне. Она посоветовала ему записать песню. Сама она тоже написала песню на его слова, и именно ее версия поначалу была общеизвестной. Такая же участь ждала и самое известное произведение Коэна – песню «Аллилуйя», которая была перепета множество раз и со временем закрепилась за другим именем прочнее, чем за именем автора. В ней, возможно, ярче всего проявилась эта дремучая смесь иудейских мотивов, трогательной, но бесстыдной жажды физической любви и самоотречения.
Сам Коэн был иудеем, но также принял буддизм, которому посвятил многие годы своей жизни. В этом он не видел никакого противоречия, ибо не считал буддизм религией. «Там нет бога» – говорил он.
Для многих Коэн выглядит монументальной фигурой. Однако он, в отличие от Боба Дилана, который, кстати, отзывался о Леонарде, как о певце номер один (себя же он называл номер ноль), редко давал концерты, предпочитая писать стихи и прозу в уединении, и лишь под конец жизни, обременённый долгами, отправился в мировой тур. На записях этих последних концертов можно увидеть Коэна ослепительно чарующим старцем с гипнотизирующими чертами лица; более того: можно увидеть толпы людей знающих каждое слово каждой написанной им песни, которые спустя десятилетия словно очистились от мишуры чужих исполнений и иллюзии малоизвестности. Оказалось, что его песни, даже самые непопулярные, пережили без труда намного более известные композиции, звучавшие по радио, ибо намного бережнее хранились слушателями, вернее, внутри слушателя. Музыка Коэна очень рассчитывает на слушателя, поэтому я и занялся переводом его песен. Слушать его песни, осознавая смысл каждой строчки или не обращая внимания на текст – два совершенно разных занятия. Коэн был по-настоящему талантливым человеком, поэтому в песнях его текст проще облекается в форму лирической притчи, нежели в стихах. Видно, что Коэн не врал, когда говорил, что писал песни очень долго, иногда годами – это видно хотя бы по тому, как он использовал метрические системы. Он любил трехстопные размеры и мог долго сочинять строку за строкой, соблюдая их, в нужный момент перестраиваясь в подозрительно изобретательный дольник – как будто случайный.
В этой подборке представлены переводы песен и стихов Коэна. Я рекомендую читать переводы песен, одновременно слушая эти песни в его исполнении. Я сделал все возможное, стараясь полностью сохранить ритм, рифму и смысл. Иногда это удавалось благодаря везению, иногда – благодаря долгому труду. Могу уверить читателя, что я не исковеркал существенно ни одной строки, не добавил ни одного существенного слова. Я относился к английскому тексту трепетно, меня интересовали только оригинальные смыслы и образы. Возможно, благодаря этим текстам вам даже удастся пропеть эти песни по-русски (но сомневаюсь, что это хорошая затея).
Стихотворения же его советую читать, не поддаваясь обманчивой простоте строк, но и не вгрызаясь излишне в каждую строку. Одно из ключевых понятий в поэтике Коэна – легенда. Если вы способны поверить с помощью его стихов в легендарность его не столь щедрой на события жизни, возможно, вам также удастся поверить в легендарность своего собственного существования.
– Александр Прокопович
ПТИЦА НА ПРОВОДЕ
Как птица,
Поющая на проводе,
Как пьяница
В хоре, идущем по ночному городу,
Я пытался, по-своему, быть свободным.
Как червяк,
На крюке повисший,
Как рыцарь, в старинной книге голову склонивший,
Такова было форма нашей любви,
Согнувшая меня бесповоротно.
Если я когда-то был сердитым,
Я надеюсь, ты сможешь не держать обиды.
Если я когда-то, когда-то был неверен,
То только потому,
Что думал, что влюбленный должен быть лжецом в какой-то мере.
Как ребенок, умерший во время родов,
Как зверь своим рогом,
Я разорвал всех, кто пытался со мной связаться.
Но я клянусь этой песней,
Что за каждый поступок нечестный,
Я приду к Тебе с компенсацией.
Мне сказал просящий милостыню безногий
«Нельзя же просить так много!»
Но красавица, в тени прильнувшая к двери плечом,
Крикнула: «Почему же не попросить еще?»
Как птица,
Поющая на проводе,
Как пьяница
В хоре, идущем по ночному городу,
Я пытался, по-своему, быть свободным.
ОТЕЛЬ ЧЕЛСИ НОМЕР ДВА [1]
Я запомнил нас вместе в Отеле Челси
Твоя речь была смелой и нежной
Твой рот ублажал из-под мятых одеял [2]
Лимузины стояли снаружи
Такова была суть и таков был Нью-Йорк
Мы бежали за плотью и наживой.
И так звали любовь для рабочих из песенных строк
Возможно, все еще так – для тех, кто выжил
О, но ты убежала, не так ли, малыш
Повернулась спиною к толпе
Я не слышал ни разу, как ты говоришь
Ты мне нужен, ты мне не нужен,
Ты мне нужен, ты мне не нужен
И весь этот бессмысленный трёп.
Я запомнил нас вместе в Отеле Челси
Ты звезда, твое сердце легенда
Ты напомнила вкратце, что любишь красавцев
Но для меня ты бы сделала исключение
И держа кулаки за таких же как мы
Кто подавлен красивыми этого мира
Ты сказала, поправив прическу,
«Мы уроды, но у нас есть лира»
Тогда ты убежала, не так ли, малыш
Повернулась спиною к толпе
Я не слышал ни разу, как ты говоришь
Ты мне нужен, ты мне не нужен,
Ты мне нужен, ты мне не нужен
И весь этот бессмысленный трёп.
Я не делаю вид, что любил тебя больше других
Я не помню о каждой упавшей робин [3]
Я запомнил нас вместе в Отеле Челси
Это все,
я не думаю о тебе особо.
[1] Стихотворение посвящено Дженис Джоплин. Номер два – это обозначение, указывающее, что это вторая версия песни, а не номер комнаты или адрес (здесь и далее примечания переводчика);
[2] В оригинале «giving me head» – эвфемизм орального секса;
[3] Робин – английское название малиновки, маленькой певучей птицы. Зачастую ее название на русский не переводилось, и я решил поступить таким же образом. Малиновка занимает видное место в британском фольклоре и фольклоре северо-западной Франции, но гораздо меньше в других частях Европы. Считалось, что это птица-грозовая туча, посвященная Тору, богу грома в скандинавской мифологии. Старая британская народная сказка объясняет рыжую грудь малиновки следующим образом: когда Иисус умирал на кресте, малиновка, тогда просто коричневого цвета, подлетела к нему и запела ему на ухо, чтобы утешить в его боли. Кровь из ран Иисуса запятнала грудь малиновки, и с тех пор все малиновки носят на себе знак крови Христа.
ФИРМЕННЫЙ СИНИЙ ПЛАЩ
Конец декабря, здесь четыре утра
Пишу, чтоб проверить, не лучше тебе ли
Мне дорог Нью Йорк несмотря на ветра
На улице Клинтон всю ночь что-то пели
Я слышал, ты строишь свой маленький дом в глубокой глуши
Теперь ты живешь впустую, я надеюсь, ты хоть что-то запишешь
Да, ты дал Джейн прядь своих темных волос
В ту ночь, когда ты вдруг решил
Стать чистым [1] и стать просветленным
Ты когда-нибудь смог?
В последнюю встречу ты выглядел старым
Твой фирменный плащ разорвали
Ты ждал каждый поезд, ты ждал его даром
Вернувшись домой, ты не пел Лили Марлен [2]
Ты отдал моей женщине кусок своей жизни
Вернувшись, она перестала быть чьей-то женой
Я вижу ты здесь, и в зубах твоих роза
Худой воришка цыганского рода
Я вижу, Джейн проснулась
Она тебе шлет свой привет
И что мне сказать, ты мой брат, мой убийца
Что мне еще произнести?
Наверно, скучаю, наверно, прощаю
Я рад, что ты встал на моем пути
Если как-то заскочишь, за Джейн или мной
Что ж, твой враг теперь спит, его женщине лучше одной
Да, спасибо, что смыл с ее глаз тень проблем
Я думал, что ей идет, поэтому просто смотрел
Да, ты дал Джейн прядь своих темных волос
В ту ночь, когда ты вдруг решил
Стать чистым и стать просветленным
Ты когда-нибудь смог?
[1] Стать чистым – «go clear»: исследователи творчества Коэна утверждают, что здесь
имеется в виду саентологическое понятие очищения разума;
[2] Лили Марлен – песня Норберта Шульце на слова Ганса Ляйпа. Написана в 1938
году. Пользовалась популярностью во время Второй мировой войны как у солдат
вермахта, так и у солдат антигитлеровской коалиции.
ИДЕТ ВОЙНА
Идет война – богатых с тем, чья жизнь бедна
Идет война – мужчин и женщин
Идет война меж теми, кто кричал «идет война»
И теми, кто кричат «вы зря кричали»
Почему же ты не вернешься обратно на войну, давай, к причалу
Почему же ты не вернешься обратно на войну, это лишь начало
Я живу здесь с женщиной и ребенком
Мои нервы становятся все хуже
Да, я восстаю из ее рук, она говорит: Ты зовешь это любовью
Я называю это службой
Почему же ты не вернешься обратно на войну, не будь туристом
Почему же ты не вернешься обратно на войну, пока не ранит первым
Почему же ты не вернешься обратно на войну, забудь про нервы
То, чем я стал, ты не выносишь на дух
Тот джентльмен, каким я был, ему ты была рада
Я слушался так просто, так просто падал
Я даже не догадывался, что война в разгаре
Почему же ты не вернешься обратно на войну, не будь смущенным
Почему же ты не вернешься обратно на войну, еще найдутся жены
Идет война – богатых с тем, чья жизнь бедна
Идет война – мужчин и женщин
Идет война меж правыми и левыми
Война меж черными и белыми
Война меж странными и ровными
Почему же ты не вернешься обратно на войну, бери свое крохотное бремя
Почему же ты не вернешься обратно на войну, пора нам поквитаться
Почему же ты не вернешься обратно на войну, ты что меня не слышишь?
ГЕНИЙ
Для тебя
я буду евреем из гетто
и станцую
и надену белые чулки
на свои изогнутые конечности
и отравлю колодцы
по всему городу
Для тебя
я буду евреем-вероотступником
и расскажу испанскому священнику
и кровавой клятве
в Талмуде
и где спрятаны
кости детей
Для тебя
я буду евреем-банкиром
и разорю гордого старого
короля-охотника
и прерву его линию
Для тебя
я буду евреем с Бродвея
и буду в театрах звать
маму рыдая
и продавать товары торгуясь
из-под прилавка
Для тебя
я буду евреем-врачом
и буду рыться
во всех мусорных баках для крайней плоти
чтобы пришить обратно
Для тебя
я буду евреем из Дахау
и лягу в известняк
с изогнутыми конечностями
и вздутой боли которую
никто не способен постичь
***
У каждого человека
есть способ предать
революцию
это мой
***
Я слышал о мужчине
Который произносит слова так прекрасно
Что стоит ему только назвать их
Женщины отдаются ему
Если я нем возле твоего тела
Пока тишина расцветает как наросты на наших губах
Это потому что я слышу как какой-то мужчина поднимается по лестнице и откашливается за нашей дверью
***
В Милане лучше
В Милане намного лучше
Мое приключение стало слаще
Я встретил девушку и поэта
Один из них был мертв
И один из них был жив
Поэт был из Перу
Девушка была доктором.
Она принимала антибиотики.
Я никогда ее не забуду.
Она привела меня в темную церковь
Посвященную деве Марии.
Долгих лет жизни лошадям и сандалиям.
Поэт вернул мне мой дух
Который я потерял в молитве.
Он был великим человеком
Выходцем из гражданской войны
Он сказал его смерть была в моих руках
Потому что я был следующим
Кто объяснит слабость любви.
Поэта звали Сесар Вальехо
Тот, который лежит на собственном лбу.
Будь же со мной великий воин
Чья сила зависит целиком
От милости женщин.
***
Потерял голос в Нью-Йорке
никогда больше не слышал его после 67-го года
Теперь я говорю как ты
Теперь я пою как ты
Меня воротит от сигарет и кофе
Несколько фамилий заставляют меня думать
Иду увидеться с адвокатом
Иду почитать почту
Потерял голос в Нью-Йорке
Видимо, ты всегда знала
***
Я завещаю свое молчание кооперативным поэтам,
уже успевшим разбить свои рты об него.
Я завещаю мою очаровательную тоску по дому падальщикам,
ищущим лишнюю мелочь в старых художественных уголках.
Я завещаю тень своего мужественного паха тем,
кто пишет ради денег.
Я завещаю нескольким жадным мужчинам второсортную легенду
своей жизни.
Тем немногим старшеклассницам,
что предпочитали мое творчество
творчеству Дилана,
я завещаю мое каменное ухо
и мои одноразовые францисканские амбиции.
Бэзил Бантинг. В кустах потрясённой сирени (перевод с английского Гали-Даны Зингер)
ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ ОД
1.
Дрозда в сирени пенье.
Голод треплет мне перья, страх,
страсть, неновые пени.
Смерть бьёт больно. Моих сынов
убили ястребы и каменья,
доверчивые слабые крылья
ласка и кот истребили.
Небо душат раскаты гроз.
В кустах потрясённой сирени я
повторяю неновые пени:
страх, голод, страсть.
О развеселый дрозд!
2.
В пепельнице
три поздних астры.
Одна понукает любовь,
вторая никнет и заклинает,
третья сжимает венчик,
припоминая
корень, соки
и пчел забавы.
3.
Приветствие в день рожденья
Шёл на охоту. И братья тоже,
но в хижине чисто, сказала девица
есть творог, а не только пахта.
Гранаты, путник,
масло, если надо,
в листьях салата
Мягкое-премягкое моё ложе.
Мало кто приходит этой дорогой.
Не замужем я, хотя сегодня
мне четырнадцать лет ровно.
У МОЛЕЛЬНИ В БРИГГФЛЭТТС
Время смешат хвальбы. Рим слаб. Рен
сам пожарам воздвиг монумент.
Пустошь в упадке, решит иной,
Солнце сгорает у нас за спиной.
Сточены камни, конечно, в песок
смешан с мощами святых дуб
только молчанию мирный приют
камень и дуб пока что дают,
пока ни о чём не просим мы,
кроме молчания. Глянь, облака
под крылом у ветра танцуют и
листья блаженствуют на лету.
КОДА
Силой песнь тянет
нас с давней болезнью слуха.
Слепы, мы следом лезем
за оползнем ливня, брызг оплеухами
в неведомое полей
Ночь, неси нас
Лей, ливень
Реви, ветер,
спроси море,
что утеряно,
что осталось?
что за рог затонул,
что за корона плывет?
Где мы, знавшие королей
пировавших на склоне дня? Кто
взмахнув топором, чтоб их скинуть,
смекает, куда мы идем?
ИЗ КНИГИ ОД
36.
Взгляни! Их стихи сложены
как мозаики – золото к золоту
золото – к лазуриту
белый мрамор – к порфиру
камень подпирает камень
отшлифована каждая фишка
нет ни лакун, ни цемента
между камнями, пока фриз стремится
к подступающей апсиде:
лучи многих побед
движимы к их средоточию, созидая
славу не из камня и не из металла,
не из слов и не из стихов, но из света,
не струящегося на осязаемое;
нерукотворную славу, ради которой всё создано.
Из цикла «Прощание с Кьеркегором: вариант единицы»
ПРОЩАНИЕ С КЬЕРКЕГОРОМ: ВАРИАНТ ЕДИНИЦЫ
Сосны встают до небес,
их вершины тучи пронзают.
Хаги кусты в росе
колышет осенний ветер.
Чистой студёной воды
зачерпну из речной протоки.
Шествует белый журавль
передо мной на тропинке.
– Байсао
УТОЧНЕНИЕ
Цикл стихотворений «Прощание с Кьеркегором: вариант единицы» построен таким образом, что стихи, относящиеся к жизни и идеям великого философа-экзистенциалиста Сёрена Кьеркегора, перемежаются речитативами, соотнесёнными с его знаменитой книгой «Страх и трепет», переведённой Наташей Исаевой и обращённой к евангельскому сюжету жертвоприношения Авраамом сына Исаака.
Отмечу, что речитативы читаются снизу вверх и слева направо, продолжая авторскую практику «Шестистиший» («Обратных композиций»), стихотворений, построенных наподобие китайских гексаграмм из книги Ицзин, состоящих из шести уровней каждая и считывающихся снизу вверх.
Стихи цикла в ряде случаев затруднены непривычными в русской просодии размерами, это отчасти ямбы и хореи, превышающие свой обычный шестистопный максимум; поэтика стихов неяркая, сбивчивая, порой на грани косноязычия, возможно, невольно ориентирующаяся на высказывание Василия Великого: «О Боге мы можем только лепетать».
Весь цикл рассчитан на внутреннее исполнительство и составляет Единицу текста.
СЁРЕН В ПОРТУ
Волна – начало лица, зыбь
промывает сама себя, барк из Китая
чайным пропах простором внутри,
бездонным – снаружи, волна – начало лица:
каждой волны птицы сущего растаскивают ткань,
ничего не оставляя, кроме его самого,
сжимая во́лны, как пружину ружья́ – это улыбка
стреляя в рыбу, это беззвучный плач –
интерференция выводит анфас из зыби,
ах Сёрен, Сёрен,
горсть подброшенных зёрен,
застрявших в воздухе кошачьим глазом с горбом,
невесом, как на стрельбах глиняный диск,
разлетается мятным в пыль холодком,
собираясь обратно в сюртук и нос,
на свой страх и свой риск
сужаясь вспять в нестерпимый вопрос
о функции мысли, Бытии и Регине
с красным бантиком, вместо губ,
плывущей на тающей
жизни льдине,
как подземельный труп.
Но выворачивается рубашка
и выворачиваются в осень цветы
пространство пустеет как фляжка
не выдержав красоты
У Сёрена губы бантиком, а тело словно пчёлы.
Так вытянут туда, где нет ещё следа,
что стал он статуей резной на парусном носу,
проросши телом в бриг, как в холм вросла слюда –
плыви, плыви, корабль с матросом на весу,
неси, неси перед собой
из серых глаз его грозу!
Плыви мой бриг меж морем и слезой –
не сбиться телом с курса, ни с волны;
между дельфином и грозой –
дельфины мыслящие мы,
и в буре Авраам свой точит нож косой,
отмахиваясь человечьей птицей
от тьмы великого Нельзя,
себя и плача, и разя,
безмерный и единолицый.
> ПЕРВЫЙ РЕЧИТАТИВ
Мориа, и там принеси его во всесожж-
ты любишь, Исаака; и пойди в землю
сына твоего, единственного твоего, которого
ам! Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми
кушал Авраама и сказал ему Авра
и было после сих происшествий Бог ис-
<...>
ДОЖДЬ В КОПЕНГАГЕНЕ
Дождь в Копенгагене и капли падают и капли
и капли падают расходятся в круги и исчезают
и длятся за границы лужи, фонаря, фонтана, гавани
за край бассейна, улицы с извозчиком и города и без предела
расходятся меж жёлтою листвой и лошадьми и фонарями
кругами в бесконечность, капли, плеск и дождь,
дождь в Копенгагене, любая вещь в нём расширяется в круги
расходится в безмерные пространства окружностью себя
в них исчезая словно капля в новой, сформированной воде
вот она есть и вот уже она волна за Марсом и Юпитером
Вот бледное лицо расширилось в тиши уходит на четыре стороны
себя в ином пространстве уточняя до ничто но в нём себя не утеряв
Она в зелёном платье вся, в зелёном платье вся, она в зелёном,
расходятся в окружность и волну фигуры, улицы и, гавань, каланча
и расширялись кру́гом сад и кирха, и служанка в лавке
и лавка, и приказчик, крыша, галка на трубе широкой крыши
рисунок новых линий образуя, разбегаясь в беспредельность осени.
И шпиль, и птица, человек в цилиндре, вывеска и молоко
в бутылке, и булыжник и кувшин и записи в тетради
теперь ушли галактике в изнанку и за край всего, за ангельские города
а он в лиловом весь, в лиловом весь в лиловом и расходится
лиловою звездой
в окружности, в тиши, в исчезновенье крыш
и го́рода и буквы и напева
и это Новый Копенгаген что раскинулся за скрипки, серафимов, времена,
зайдя за прошлое окружностью, чей радиус вне мер и бел как цапля
И тишина и звуки капель и слова́ уходят внутрь себя и Новый
Иерусалим стоит в глубоком невозможном прежде небе
его узреть нельзя глазами птицы или человека
лишь капель звук и он в лиловом весь в лиловом весь и лужи под ногами
и город ширится как сердце человека вглубь и вспять
дождь в Копенгагене, дождь в Копенгагене рукой не взять,
но упадая сквозь пространство-время ниц
следить его за долготой пророческих ресниц
> ВТОРОЙ РЕЧИТАТИВ
ама не вмещает себя с сыном без сына
тянется за край земли сердце Авра
дет жертвоприношение убийство
дровами никто не говорил что бу
песок тянется и осёл с наколотыми
тянутся холмы к горизонту битый кремень
<...>
СЁРЕН И ОРФЕЙ
Только на краю отчаяния есть вход в двери истины
«Взамен он дал мне силу духа, какой нет ни у кого в Дании»
Зачем меня Орфей несёт как лист стекла,
в нём отражаются попеременно
листок, извозчик, гавань, стадо чаек
и шмель в меня стучит, не замечая
в из неба вынутый квадрат
10 лет всяческих склок с журналистами и церковью (господин Гольдшмидт, господин
Мёллер, господин Мартенсен, новый епископ) сделали из денди с тростью старую ворону с волочащимся крылом, с человечьими навыкате глазами.
Зачем несёшь меня Орфей к Аиду
где в стонах царствует струна виолончели
зачем пустые движутся качели
от сердца к небу, затаив обиду
я ведь не вор, я ведь не ворон с речью
я только тонкий белый отрок снеговой
я не стекло с разбитой головой –
старик плывущий в неба междуречье
продолговатый и живой.
Зачем, Орфей, меня ты песней превратил в стекло,
а ноги в земляничную поляну,
цел Исаак, как сжатое тепло,
и я его раскачивать не стану.
И я кричу от боли, как ревёт гиппопотам.
Отчаянье очей – глубокозрящим зренье.
Я сложен из стекла и крика пополам
и вены семикратной озаренья,
летит по небу тела храм –
из букв и воздуха стихотворенье.
А мной поёт Орфей, ломая строй небес
но общее да не владеет единицей,
и дышит Бог безмерною синицей.
Я над рекой стою – в иной простор разрез.
Не приходи его зашить. Орфей,
неси меня стеклом и ветром маргаритки
сквозь этот мир, что лжив до дна и нитки,
где гол, как дева, вечный соловей
<...>
КОНИЧЕСКИЙ СВЯТОЙ
подъём стеклянных вмятин,
ты надуваешь паруса и с небесными
сферами ты в родстве а внутри стоит
небесный человек в морщинах и невинногубый
он делает тебя невидимым он роет землю
и скачет конь со всадником в Париж
на самом деле конуса внутри
по сложным по переплетённым эллипсам
но конь горяч и плачет гравий под копытом
избытком выпуклой земли
и вот уж ни коня ни всадника.
Конический святой открыт любой звезде
кузнечику, улитке
руками машет – в каждой по цветку
а небо держит точкой, запальчивой и хладнокровной,
сжимаясь внутрь, разжат на целый свет.
Кто целовал тебя кто тронуть захотел
твои как цапля неземные плечи
кого ты спас где ты тонул горел
от слов твоих какие зажигались свечи?
Конический святой подмышка ангела в работе
твой белый лоб в солёном поте
слежалась под тобой солдатская земля
ты весь сошёлся до нуля
и ты на лбу стоял у Ницше как спиртовка,
и мёртвых обмывал целуя в губы
в земле лежит убитая винтовка
и у птенцов людей как трубы
раскрыты клювы
и ты их кормишь тишиной и хлебом.
Ты смерти цел неуязвим
рождая порт и речку и змею
идёшь сквозь тучу пуль, гудишь в пчеле
и Хлебникова пульс толкаешь и свистишь
и звёзд глубокий ров и колею
очеловечиваешь трудным человеком
два тела любящих восходят по тебе
чтоб слиться в точку и упасть в окружность
ты ходишь сквозь толпу как нежность
и горн поёт вослед тебе
И бьются серверы и кони
и нефть кричит в помаде ртом и птицы
летят на юг... молись о нас и никни
мы тоже живы, вот сосна стоит
вот снег летит как будто бы Гораций
как будто бы гора, как будто бы корабль
и целый мир сейчас необходимо высказать
исчезнувшим как след за птицей языком...
> ПЯТЫЙ РЕЧИТАТИВ
жизнь с неподвижной далью
тец вынул из груди сына –
гел в ветках воздуха и о
в ветвях можжевельника а ан
Авраам нож и запутался агнец
и пришли на место и поднял
<...>
В ГОРОДЕ Ч.
Здесь, в городе Ч,
где в доме разит кошатиной,
а на улицах ангельскими голосами
матерятся дети и нет ни одной
привлекательной женщины,
я перестал воспринимать вещи: деревья,
книги, автобусы на автостанции, старый фильм
на экране ноутбука –
двоятся, как поплавок, на то, что я знал
о них прежде, и то,
что я знаю о них теперь,
проникая в их глубь,
сомневаясь в существовании многочисленных
поверхностей,
и я замечаю, что
всё стало не так важно: новое место, «скрипки осени»,
написанные или ненаписанные стихи или разлука,
другие города, тарахтящие моторы, междугородние маршруты
автобусов, и даже великие поэты с их стихами
в разбросанных по комнате томиках.
Что же ты увезёшь отсюда,
кроме фразы: я есмь, набранных на ноутбуке стихов
и воспоминаний о том, как
всё трудно шло и каждый день лил дождь?
Не знаю.
Я увезу настоящее, да.
То, что глубже стихов и дождя,
красивых и некрасивых женщин, важнее
времени и пространства, – увезу я есмь без слов,
просто я есмь,
жизнь того, что эти два слова
столь много веков силятся выразить.
Возможно, я расскажу это той, что устроила
мне эту поездку сюда,
красивой женщине с безупречной фигурой,
которую я никогда не мог понять, ни слов её, ни привычек,
ни отношения к моде
и до сих пор помню её обнажённые плечи и бёдра
в свете уличного фонаря за окном
много лет тому назад,
а сейчас держу в уме, что последнюю строчку
не следует заполнять ни интонацией, ни словами...
> ШЕСТОЙ РЕЧИТАТИВ
режешь ей красное грудное горло
пока ты под взглядом Бога
впрыгнула овечка и смотрит на тебя
смотришь на сына в грудь которого
и сам ты ушёл и разорвав себе сердце
есть камень из которого время ушло
<...>
***
постепенное вычленение тёмного моря
с парусником парками со скачущими воро
бьями уже и руки рассасываются и правка журнала
«Мгновения» с его полемикой против сов
ременного христианства лебедь в парке
идущий переваливаясь как лодка на волне
по жухлым листьям свет сте́ны с эстампа
ми вкус память рассасываясь –
неистощимы
когда ничего не остаётся приходит Реальное
которое и есть невычитаемое «Я»
оно
всегда тут
было
излучаемое парусником
жухлыми листьями
стопкой журналов
цветом, переполненным бытием
где белый, переваливаясь
жар от пальцев
тут
***
2 октября 1855 года с господином Сёреном Обю Кьеркегором
случился удар, и он упал на улице. Когда страдальца
подняли и понесли к карете, чтобы доставить в госпиталь, впереди него,
окружённого санитарами, пошёл белый журавль.
> ДЕВЯТЫЙ РЕЧИТАТИВ
новых огней шёпоте новых дистанций
огромную чёрную в перемигиваниях
звёзды как кварц в угольную яму
вогнутого неба куда ссыпаются
людьми и воздухом они отторгаются кроме
рыцарю веры не ставят памятников
Слову вне слов
***
Как передать непередаваемое?
Как передать его без слов, без знаков,
без поучающих жестов,
без пинков и подмигиваний,
без гудения сутр?
Без пения воплениц,
без рыданий над трупом ребенка?
Без свадебного танца,
восходящего к самому первому танцу в мире,
изошедшему из необъяснимого инстинкта?
Как передать тайну нашего обитания нигде
и ухода в никуда?
Как передать тайну нашей изначальной
растворенности во всём?
К кому плачем, уходя?
К кому наша радость в эпицентре цветенья?
***
Есть долгое прозрачное мышление,
оно не поддается переводу
на языки признанья и давления,
оно растет как сущее растение,
мы в нем вибрируем и пьем сознанья воду.
Мы в нем обосновались с первым вздохом,
мы каждой долей мыслим этим ритмом;
оно темно как царская молитва,
необъяснимо как любовь улитки;
опьянены мы только этим соком.
А этих соков миллионы может быть.
Мышление сквозь нас летит и кается.
А мы кричим: о боже мой, о боже мой;
не слишком ли легко здесь всё итожится?
Не слишком ли здесь всё дрожит и кажется?
Мы замерли в прозрачности истории,
которую не боги нам накликали.
Они в нас смотрят ужасом и ликами,
пожарами и конницей и кликами
и нас сметающими дикими просторами.
***
Я лечу я вижу куст я на него сажусь
я не тот о ком думаете вы
обо мне невозможно подумать
я отцеплен от слез я утонул в воздухе
в стольких мильонах грёз
никакой плотности видений не хватит
чтобы меня изловить
я предлагаю сесть на вершину холма
и грудью молчанье испить
а потом войти в холм в основанье его
и превратиться в кого-то
кто неведомее всего
неведомее всего на свете
в свете обнаружить мглу
пойте пойте же дети
аллилуйю-хулу.
***
То шамканье, то боль от удилов,
то вздыбленность и заревое мчанье,
истрата слов, прощанье с миром снов
и шевеленье космоса отчаянья.
Неизрекаемость и снова жар свечной,
и волхвованье еле слышных теней,
и потаенность главного весной,
и ускользаемость сознания растений.
И бред напрасный, чуткость редких встреч,
потом запутанность и зачумленность
и несводимость ни к чему: так речь
течет отчаянно сквозь тьмы эонность.
Не ухватить, не тронуть суть, но льнуть.
К кому или к чему? Помилуй, боже!
Неужто я и есть тот самый путь,
которого на свете нет дороже?
Кто в нас течет, кто рвется на простор?
Зачем он стонет, когда всё в порядке?
Зачем пускается он, словно Иов, в ор,
увидев солнца луч в сырой туманной прядке?
***
Как быстро устремляешься в ничто
еще вчера ущелье мощной было явью
и вот – всего лишь череда картинок
и в ярусах иных пелен всерастворяется
не так ли всё случившееся помню словно сон
а вот уже и он растаял стерся сгинул
как часто не умею провести вполне
отчетливую линию меж явью и тем
что снилось в заповедных снах
как часто путаюсь не зная кто есть кто
и обращаюсь вдруг к кому-то с речью
он смотрит на меня недоуменно
иль я наоборот не понимаю откуда вдруг
и почему кидается на шею незнакомец
совсем не плут совсем не сумасшедший
как всё трудней удерживать границы
меж бывшим и приснившимся сколь много
того что вроде было приключалось волновало
припоминаю словно то из грезы
какие-то обрывки облака фрагменты хлопья
истории любовные как будто не со мной с другим
и я смотрю на них тем взглядом изумленным
которым смотрит видимо художник придумывая
постранней сюжет где два слепца пытаются портреты
друг друга воссоздать на том холсте что был не ими
в какой-то тайной местности натянут иль натыкаюсь на письмо
струя сквозь пальцы чемоданную труху на чердаке
и долго думаю к кому оно откуда явился этот странный
такой внезапный и великолепный образ потом еще письмо
потом еще так это ведь со мною было так строчки говорят
со мной была вся эта маленькая илиада-одиссея вдруг вспоминается
и весь роман до запятых до точек столь не похожий
на банальные сюжеты всё то причудливое взвихренное время
является само хотя в тумане и озаряет вдруг вопросом
да как же мог такое я и начисто забыть
ведь я бы никогда не вспомнил это когда бы
не наткнулся на письмо иль если бы все письма затерялись
так чтό есть жизнь поток невнятных ливней
дождей то моросящих то тяжелых то гроз
молниеносных то затиший всё как в забвенье
погружается вот в это, вот в этот день прозрачный
и насущный всё опадает словно листья в желти
цвет мудрости и остаётся знанье легчайшее и тонкое
как парус оно как мёд и как нектар быть может
и ужас в нем и страх сквозной неведенье предчувствий
не проработать внутренней работой никем не видимой извне
да и тобой ветхозаветным даже всего что тут случилось
произошло оставь эти леса лишь здание стоит
ну а потом оно ведь тоже рухнет
пускай фонарь зажжен с любовью, он потухнет
всей силой проигравших парамит
когда ты подойдешь к черте последней разве
вдруг не сотрется жизнь как сон иль не сольется
с той памятью большой которую тебе перебирать придется
там на брегах где нет всей нашей гонки и где не изгоняет
поэзия мгновения иные мгновенья все и где ты сможешь
поуспокоиться (покойник!), остыть и с тихой нежностью
восстановить всё что случается случилось в том законном
о в самозаконном том и даже в абсолютном есть
вот там, мой друг, где все обрывки твоих жизней
восстанут в полноте всебытия (ничто не вытолкнет
другого не спихнет никто не напирает не торопит)
займешься ты серьезною работой которой на земле
никто не занят здесь зуммер времени
а там безумья саммит
вневременья в крови твоей экзамен
на кромке выстрела во сне небытия!
***
Перетереть всю цивилизацию в искренности словоизверженья.
Перетереть ее полностью, до трухи, до осыпи с обрыва, до опилок,
которыми уже не посыпают полы конюшен, коровников, свинарников и прочего.
Перетертая на жерновах языка, она потеряет свою уверенность, свой апломб
и рухнет к чертовой матери тебе под ноги, и ты наступишь на нее,
как на утреннюю дымку, не как на мох в лесу, наступишь как на дохлую лису
и захохочешь смехом самурая по имени Линь-цзы, Филиппа такого-то,
Джугашвили-неудачника, одним словом смехом еще одного кретина,
купившего сто миллионов слов и не знающего, что с ними делать.
УМИРАНИЕ ПОЭТА
Есть тот, кто всё поставил на слова.
Но быть может самое главное
и самое таинственное происходило вне
словесных фильтров, вне метафорических сетей
и нескончаемых кокетливых экзерсисов?
Было ли сущностным страстное фехтование
бесплотными символами? В чем воплощал себя
твой ближний, гениально живший молчаливо,
всё внимание отдавший безмолвию, слову вне слов?
Так спрашивал я себя, читая последние книги умиравшего поэта.
С чем прощается старый поэт? С телом или со словами?
Или с чем-то, что не укладывается ни в то, ни в это?
Он сам не знал, прощался ли с тенями тех уже истлевших
женщин, чьи ароматы в нем остались навсегда
или с пыльцой крылечка детства или с чем-то,
чему не уместиться в памяти столь грубой
и столь вещественной и смертной.
Растерянный, но явно потрясенный он умирал,
не зная, кто он и зачем
и для чего сюда был послан.
За что пытался здесь он ухватиться,
чтобы увидеть след свой из Ничто,
которого никак не мог представить,
и это его мучило ужасно.
Но то был лишь канун еще, не смерть.
Явление
ЯВЛЕНИЕ
I. Пляж
Птицы разлетелись – солнце взошло,
босоногие мальчишки смеялись: тебе семь и мне семь,
много следов на песке – они запутались,
её волосы поднялись к небу.
Босоногие мальчишки смеялись: ты закрываешь солнце!
становится холодно, как пар изо рта,
становится холодно, море синеет,
зелёный-зелёный день над водой,
лето закончилось в июне, все это знали.
Никто уже не купается, мальчишки шепчутся:
её грудь обнажена, а ноги покрыты пеной,
почему она здесь?
Паутина образуется в её волосах,
волны бьются о её колени,
а земля грубеет под ногами,
прошло много дней, она всё ещё там?
она дрожит и потеет.
II. Лес
Старик говорит: птицы рано улетели,
а те, что остались, молчат.
Все заметили:
бук не качается от ветра,
чайки больше не ловят рыбу,
говорят, солнце поднялось слишком высоко,
но откуда им знать, его не видно.
Охотники отчаялись:
норы пустеют, сосны осыпаются,
на земле остаются следы – мокро, говорили они,
дуб на опушке начал погружаться
и наклонился вправо, говорили они,
не только дуб, но и клён на холме,
на который лазят мальчишки.
А тот, кудрявый, пропал, шепчутся:
прыгнул на землю и утонул,
но и липа на западе погружается
и пахнет, словно сыр или забытый хлеб.
Старик говорит: они не скрипят,
должны скрипеть…
А кто-то собрал целую банку пчёл,
нашёл их около липы и жёлтых цветов.
А кто-то целую банку жуков:
они лежат в траве и не шевелятся.
Всех волновали звуки:
какой зелёный день, какой тихий вечер,
по ночам слышно, как дышат соседи…
Старика волновали деревья, он перестал шутить:
пыльца летает в воздухе, словно пух,
чайки не возвращаются на пристань…
Все говорят «идёт ко дну»,
и все спрашивали: к какому дну?
III. Зверь и вода
В небе что-то – не звёзды, ночью,
в небе что-то закрывает солнце,
но у всех есть часы,
и все знают: что-то не так.
Старикам не было холодно,
а мальчишки бегали в дублёнках:
огонь не берёт мокрое полено!
Сегодня мои ноги были синими, мамочка испугалась,
сегодня я ничего не пил, вода не поднимается по трубам,
вчера мы растопили мороженое и выпили сладкое молоко,
вчера мы не слышали как закричал мой брат в кроватке, мы крепко уснули…
Старик больше не появляется на пристани,
может быть сегодня?
Мальчишки кричали: вода так далеко, вода так далеко!
океан откатился назад, посмотрите, океан где-то далеко!
на горизонте видно, как он волнуется…
Как много ракушек, как много гадкой тины,
как много мягкого песка и морских камней!
Но кто-то идёт и оставляет следы,
и светит, словно огонь, вдали оранжевая точка…
Вы только посмотрите – это большая кошка!
идёт и дышит, словно волны, она оглушает всё.
Ближе и ближе – это большая кошка!
Она топчет песок, что был под океаном,
она бежит сюда, она полосатая и быстрая!
IV. День
Мамочка не поверила, рассказывали мальчишки,
мамочка сказала так не бывает, нужно выбить дурь из головы,
мамочка сказала океан не откатывается и не высыхает, так вот,
мамочка сказала большая кошка – тигр.
Но мы не обманщики, мы проверим.
Найдём девушку или её тело – тигры едят людей?
Она всё ещё там? сколько дней прошло?
Нам не страшно, мы быстро бегаем,
мы берём с собой палку и кухонный нож,
мы всё продумали, мы всё решим.
Моряки говорят:
ветра нет, сколько времени прошло?
Вчера мы видели как кто-то стоял на пляже,
и неделю назад мы видели…
Рыба не двигается, мы видели,
рыба замерла под водой...
А ветра нет который день,
сейчас день?
Мальчишки смеялись: у рыбы воды предостаточно!
Мамочка говорит только «зелёный день, зелёный день»...
А мы знаем кто закрыл солнце! Это не тучи, ха-ха!
Старики засыпают надолго, а мы знаем, что они не спят!
А мы идём спасать голую женщину, она на пляже!
А мы идём смотреть на море, оно далеко!
А помните, было лето?
Совсем недавно, но все говорят давно…
Помните, мы ныряли много раз,
помните, наши спины краснели, а затем облазили,
мы ловили пляжный зонт, наперегонки,
помните, как быстро он летел?
Зелёный день спустился к нам, старики говорили,
зелёный день колышет волосы спящих,
зелёный день обрушился – это что-то значит.
А мы идём и видим:
Скалы замолкли, ветер покинул их,
воздух тяжелеет, всё прекращается,
день короче, ночь быстрее, день, ночь, день…
Теперь море близко…оно вернулось, и тигр ушёл?
Теперь много воды – красивые камни под ней…
Но...
Взгляните, около утёса!
Она всё ещё здесь…
V. Она
Мальчишки шептались:
она стоит, а её руки подняты к небу,
серые и тонкие, они замерли.
Её голова опущена, её волосы стремятся вверх,
они колышутся, гладкие, словно каштан,
они продолжаются вверх, им нет конца!
По её коже стекают капли пота,
она быстро дышит, она тихо дышит,
её тело не пахнет.
Она похожа на девушку,
она совсем без одежды,
она не движется и приближается,
она издаёт звуки?
Будто звезда врезалась в другую
и свет обливает головы, как дождь,
и цвет появляется и исчезает,
он тёплый и лёгкий, он касается нас,
какой это цвет?
Она внутри, её вкус заполняет нас,
её пот холодный, он мягкий, как пух,
течёт внутрь и расширяется,
она в руках и животах, она светит и расползается,
она наполняет и кружится внутри.
Она – пыль, касается и улетает,
её желтый сок капает в наш рот,
она кружится внутри…
Её глаза блестят и шумят,
она смотрит на нас,
она кружится внутри…
Она пылает, её лицо в тумане и свете,
она – вспышка над нами,
она смотрит в нас и увеличивается,
её глаза блестят и шумят,
она гаснет и возрождается,
течёт и просачивается,
она кружится внутри,
она кружится внутри…
Стихи из собрания стихотворений (с комментарием Валерия Шубинского)
В «Издательстве Ивана Лимбаха» выпущено двухтомное собрание стихотворений Олега Юрьева (1959–2018), составленное и прокомментированное Ольгой Мартыновой и Валерием Шубинским. В поддержку книги мы публикуем несколько стихотворений Олега Юрьева с комментариями Валерия Шубинского и видеорассказом о работе над двухтомником.
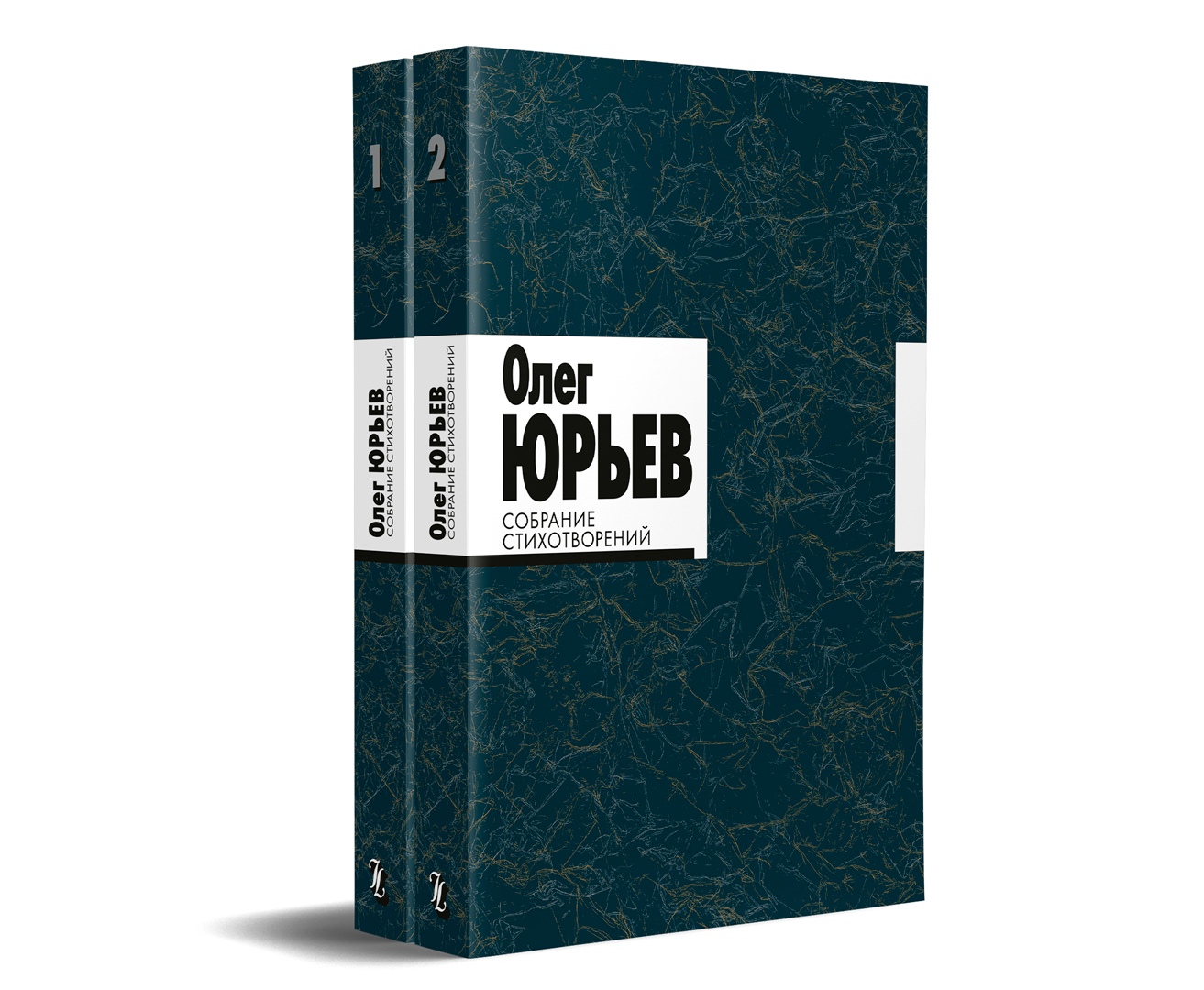
БАЛТИЙСКАЯ ЭЛЕГИЯ
Жив ли еще околоточный нашего неба, охолонувший его окоем, чеканящий пеструю вату из этих небес?
Живы они ли над запахом гладким ванили, над осенью этой? Что ж они делят, что поминают, не плачут ли? Что ты, не плачут! Плакать ли им в этом утреннем свете и гуле, Элизии бледной окраски?
(О, как же мы простимся без улыбок, без просвета памяти? Как будем жить, как станем жить, когда и горевать-то не с чем?)
А те, кто погиб, их имя не будет надсмешкой, не станет, обернуто в рыжую прóстыню, носом сквозя високосным.
Я долго и празднично плакал, я много и сказочно правдою плакал.
Простят или нет, кто зеленые сло́ги посеял, а я их искал и искал, подымая остывшие зубы к закату, который, как ты это знаешь, доступен горючему брату отрубленной ветви, летящей по берегу косо.
А я, одинокий, иду, и ямы от ног моих сгущаются всё и сгущаются. Это сгущается вечер.
И пальцы мерцают, как стены далекой столицы, куда перед смертью еще заглянуть доведется, и я пробреду, иностранец, по улице, страшно похожей на ту, что синие горсти песка по берегу тяжко полощет.
Не бойся. – всё повторѝтся, повтóрится это – нас подымут на быстрые роги и чашка-земля отдаленно взовьется и сплющится кратко. О сердце мое.
1980
***
Э. Л. Линецкой
Эти конные ветки – не снятся,
Цокот замшевый их наяву,
И готов я с прелестною жизнью обняться,
Хоть и чуждым, и лишним слыву.
Хоть не входит сюда на рассвете
Ни волны полувзмах, ни огня...
Лишь деревья – сквозь вод и огней переплетье –
Дышат ясную тьму на меня.
Жизнь вошла. И иною не выйдет.
И иной я уже не смогу...
Лишь деревья сквозь очи кровавые видят
Непокорного их неслугу.
1983
ВТОРОЕ ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ
Человек – это колодезный
ворот, накручивающий на себя
свою цепь.
Уж такая хорошая мне далась душа,
Чтоб сквозь щелочки говорить со светом
И, разъеденным воздухом чуть дыша,
Глухо вздрагивать панцирьком нагретым.
Но, Господи, в этот светлый час
Раскрывающихся полночных створок
Стала Тьма Твоя как стеклянный газ,
Как стоящий снег, как парящий порох.
Я сердечный мускул Твоей ночи.
Мне не выпутаться из кровеносной сети,
Потому что я не был нигде на свете,
Кроме тьмы и сверкающей в ней свечи.
Ведь такая душа только там сильна –
В этом свернутом, влажном, слепом, соленом,
Потому что выковырянная, она
Как простой слизняк на ноже каленом.
То, что знаю, – пора уж! – и Ты узнай:
Я боюсь оказаться в уже дребезжащем варе...
Вот, другую – прошу я – стеклянную душу дай,
Рассыпающуюся при ударе...
1986
ХОР НА ДЕРЕВО И МЕДЬ
строфа I
Кажется, вышелушились бесследно
Зерна глазного пшена,
Только и видит обратное зрение,
Ясное дотемна:
Старые сумерки реже и бреннее
Вычесанного руна,
Старое дерево медно,
Старая медь зелена.
антистрофа I
Пойте, славянки, во мгле переулка,
Шелком шурша о бока,
Не обернуться лицом нераскаянным,
Не обернуться, пока
Толстые змеи идут по окраинам,
Мохнатая машет рука –
Русское дерево гулко,
Немецкая медь глубока.
строфа II
За языком бы... Да много ли смысла
В мертвой слюне палача?
Много ль осталось объедков у барина,
Латных обносков с плеча?
Бывшая жизнь, ужурчит, переварена,
Склизкую ткань щекоча –
Взмокшее дерево кисло,
Скисшая медь горяча.
антистрофа II
То, что в окраинном ветре гугнило,
Выветрилось без следа,
Только ржавеет на мшистых обочинах
Выкачанная руда.
Старые девушки в платьях намоченных,
Смолкните в никуда –
Поющее дерево гнило,
Поющая медь молода.
эпод
Кажется, все уже начисто сплавлено –
Доверху высвобождена река.
Кажется, все уже намертво сплавлено –
Донизу выработана руда.
Все, что распалось, по горсточкам взвешено
В призраке выключенного луча.
Все, что осталось, по шерсточкам взвешено
В золоте вычесанного руна.
1994
***
О медленном золоте нашего дня
поет на чугунном углу западня
и наголо колосом зреет,
который качается в утренней мгле,
где голые тени стоят на игле
и наглое олово реет.
Когда мы выходим за бледный порог,
лежит на земле поколений творог
уже растолченный и сжатый
и плачет вагоновожатый,
в сухой порошок заезжая трамвай,
и падает снег-растопыра на май,
и пахнет последнею жатвой.
О родине спелой отпеты не все
шуршащие песни – косцу и косе
еще величальной не ныли.
Когда мы вступаем в рассветную мглу,
грохочет трамвай, как гранат, на углу,
и в заднем вагоне не мы ли?
С холодной копейкой стоять под копьем
наклонным, обернутым ветра тряпьем,
среди заснежённого мая
была нам дорога прямая –
но, видимо, вырвал страницу писец
из книги небесной, и вздрогнул косец,
рывками косу поднимая.
2003
НА НАБЕРЕЖНОЙ
...а едва из башенки мы сошли
в те накатанные из мягкого дымного льда
небеса, что так сизо-розовы и покаты,
как всё и опять мы увидели, но не так, как с земли:
Цыгане, поклевывающие с моста.
Цыганки, поплевывающие на карты.
Утки, поплавывающие в пенной пыли.
Собачки, курчавые, как борозда.
Младенцы, щекотаны и щекаты.
(И низкие покоробленные корабли.)
(И черные опаздывающие поезда.)
(И белые ослепительные закаты.)
2007
***
...туда и полетим, где мостовые стыки
Сверкают на заре, как мертвые штыки,
Где скачут заржавелые шутихи
По мреющему мрамору реки,
Где солнцем налиты железные стаканы,
Где воздух налету как в зеркале горит,
И даже смерть любимыми стихами
Сквозь полотенца говорит.
2011
ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ ТИШИНЫ
Я забыл тишину – на каком языке,
Говорите, она говорила?
То ли русскую розу сжимала в руке,
То ли твóрог немецкий творила?
То ли ножик еврейский в межпальчьях мелькал,
Как дежурный обшлаг генерала?
Говорите, она была речью зеркал,
Говорите, она умирала?
Как я вышел из дóму к поклонной реке
И потек в направлении света,
Всё слабела она в темноте, тишина,
Вся под сеткой светящейся лета.
Ускакал я в огонь на зеленом жуке,
Обнуздавши рогатое рыло...
Я забыл темноту – на каком языке,
Говорите, она говорила?
2013
АРИЯ
Это
всё о луне
Только небылица, –
В этот вздор о луне
Верить не годится.
– О. Э. Мандельштам, «У меня на луне» (1914, 1927)
Все, что похерено, все, что потеряно,
Все, что посеяно в гнилое глиньё, –
Разум Роландов и девство Венерино,
Зренье кротовье, ухо тетерино,
Черных копеек, расчесок немеряно
И сердце мое, и сердце мое, –
Всё, что потеряно и не находится,
Всё на луне, как известно, находится!
Сесть на копье ли из старого ясеня,
Чье адамантом горит острие,
И полететь в это иссиня-синее
Небо ночное в облачном инее
Прямо по линии к полной луне,
Где у светящейся пыли на дне
Медленно плещут страницами Плинии...
Но не воткнется ли эта орясина
В сердце мое, прямо в сердце мое?
Может, и черт с ним, с тем, что потеряно!? –
Сапфины строфы, ятрышки мерина,
Злые болонки, что хнычут растерянно,
Пусть остаются на этой луне,
У пухло светящейся пыли на дне...
...Сердце мое, ты не вернешься ко мне!
2015
***
золотом тленным ленным железом
я до последнего дня торговал
в облаке пенном голосом пленным
пел-напевал пил-выпивал
острыми крыльями мрак разбивал
выл-завывал вопиющею выпью
дул-задувал как из сиплой дуды
сколько я выпил столько не выпью
той не живой и не мертвой воды
мыльной сверкающей пылью воды
скоро окончится странствие птичье
в облаке пенном в тленном пальто
в золоте ленном в пленном железе
петь-напевать уж не будет никто
врать-воровать уж не будет никто
всё и величье и неприличье
распродавать не будет никто
2017
Эта подборка включает десять стихотворений Олега Юрьева, написанных в разные годы. Принцип простой: по одному стихотворению из каждой книги, настоящей или условной. Дело в том, что само разделение на книги отчасти произведено задним числом, в соответствии с предполагаемой волей автора, но без его прямого участия.
Начиная с 2007 года новые книги поэта выходили «в порядке написания», хотя тоже не всегда в полном соответствии с авторской волей (например, очень важная для поэта и очень цельная концептуально книга «10х5» отдельным изданием света не увидела). Последняя – «Петербургские кладбища» - издана посмертно, в 2018 году.
Но до этого было только два очень сжатых избранных – первое из которых, «Стихи о небесном наборе», опубликовано в 1989 году в составе сборника «Камера хранения», под одной обложкой с книгами трех других поэтов.
Двое из них составили двухтомное собрание стихотворений Юрьева, которое сейчас находится в печати. Я хотел бы поблагодарить Ольгу Мартынову, единственного человека, который вправе был выбрать формат посмертного издания стихов Юрьева и своих помощников в подготовке этого издания, за то, что выбор ее силою вещей пал на меня. Для меня в течение трех лет работа над этим собранием была заменой личного (пусть в течение многих лет в основном эпистолярного) общения с Олегом, которого мне не хватало и не хватает.
Так вот: одним из сложных вопросов для составителей была структура издания. Стихи, написанные начиная с 1999 года, вошли в поздние книги. Стихи до весны 1984 года включительно – в две книги, составленные самим автором, в ситуации, когда о публикации в официальной печати и думать не приходилось. Стихи же, написанные между этими двумя датами, были с определенной долей условности разделены составителями на две книги – «Стихи о небесном наборе» и «Стихи и хоры». Названия книг авторские, но граница между ними (декабрь 1988, когда была составлена и отдана в печать «Камера хранения») условна. Сам поэт проводил ее в разные годы по-разному.
Может быть, поэтому важнейший для поэта период – вторая половина 1980-х и 1990-е годы – представлен в этой подборке чуть скуднее, чем он того заслуживает. Мне кажется, что стихи Юрьева этого периода и сейчас на слуху у читателя меньше, чем более поздние. Между тем именно в 1980-е годы родился ни на что не похожий, мощный и подвижный язык поэта, именно тогда оформился его голос и сложились в основе своей его взгляды на культуру. Потом и взгляды уточнялись, и тембр голоса менялся, и особенности пластики. Был сдвиг в сторону жесткой графичности в 1990-е, и новая взволнованная «смазанность» очертаний и граней в 2000-е, и неожиданный переход к прямой, чуть не исповедальной речи в начале 2010-х, и тончайшие филологические игры середины десятилетия, и трагические и мужественные прощальные стихи «Петербургских кладбищ». Но основа была заложена еще в период первой «Камеры хранения».
В двухтомник вошли и стихи, не вошедшие ни в одну из авторских книг: юношеские, оставшиеся в черновиках или по каким-то причинам отвергнутые автором. В основном эти отвергнутые стихи относятся к тем же 1980-м годам, и среди них есть, с нашей точки зрения, замечательные.
Составители поставили перед собой сложную и амбициозную задачу, которую выполнили в той мере, в какой смогли – подготовить всесторонне комментированное издание. Нет пока такого издания стихов ни одного новейшего русского поэта, кроме Леонида Аронзона. Почему важно было сделать это по свежим следам? Еще жива память об обстоятельствах, при которых написано то или иное стихотворение, о его скрытых смыслах и подтексте, об упоминающихся в нем бытовых реалиях. Например, поймут ли первую строку стихотворения «в России маленькой двойной…» люди, не знающие, что «маленьким двойным» назывался в СССР кофе эспрессо и что питье такого (именно такого!) кофе в знаменитом «Сайгоне» и других богемных кофейнях 1980-х было особым ритуалом? Иногда в памяти составителей всплывали варианты строк, отсутствующие в рукописях.
Бывало, я сам узнавал новое о стихах, которые, как мне казалось, понимал. Например, что «Хор на дерево и медь» восходит к выражению оркестровых музыкантов: «Дерево русское, медь немецкая» (это значило, что среди скрипачей преобладают выходцы из России, среди духовиков – немцы).
Иногда понимание приходило к комментаторам по ходу работы. В одном из стихотворений, построенном на сложной игре с центральноевропейскими историческими и географическими реалиями, была строка: «И в елейную Ильну и за гребаный Греб». Ни сами комментаторы, ни их друзья не могли разыскать Ильну и Греб ни в одном справочнике и ни на одной карте, пока однажды нас не осенила простая догадка: обыгрываются «Вильна» и «Загреб».
А случается, что понимание так и не приходит. В 1984 году Олег, даря мне свою машинописную книжку, в стихотворении «Балтийская элегия» исправил от руки слово «иностранец» на «иностраец», и сделал примечание: «sic». Я не спросил его, что это значит – постеснялся, что не догадался сам (да будет мне оправданием мой возраст – 19 лет). Сейчас мы обнаружили этот загадочный вариант в рукописи и в еще одной машинописи. В других – нет. (А напечатано при жизни стихотворение не было).
Среди самых важных комментариев – те, которые касаются отношений с коллегами, собратьями по перу, друзьями, сподвижниками, высокопарно выражаясь. В первую очередь теми, которых тоже уже нет. Образы друзей-поэтов встают в нескольких стихотворениях; пусть одно из них и комментарий к нему пополнят составленную подборку.
– Валерий Шубинский
ЗИМА 1994
Земля желта в фонарных выменах,
В реке черна и в облаках лилова,
А лошадь с бородою, как монах,
И царь в ватинной маске змеелова
Устало зеленеют из-под дыр
Разношенной до дыр кольчужной сети.
Всплывает по реке поддонный дым,
Ему навстречу дышат в стекла дети,
И женщины, румяные с тоски,
В стрельчатых шубах и платках как замок
Бегут от закипающих такси
И заплывающих каблучных ямок,
Где шелестит бескровно серый прах
И искрами вскрывается на взрыве.
Там в порах смерть, там порох на ветрах
И ржавые усы в придонной рыбе.
Там встала ночь, немея, на коньки,
И, собственных еще темнее теней,
Засвеченные зданья вдоль реки
С тетрадами своих столпотворений
Парят над балюстрадой меловой,
Где, скрючась под какою-то коробкой,
Безумный Вольф с облезлой головой
И белой оттопыренной бородкой
Идет.
1994
Печатается по НЛО, 2006, №1, где опубликовано в составе статьи «На жизнь поэта» (некролога С. Вольфу). Републикацию стихотворения в НЛО предваряет следующий абзац: «Одиннадцать лет назад, вспоминая о Ленинграде, я сочинил стихотворение. Не о Вольфе, конечно. Я не умею сочинять стихи о. Скажем так: Вольф был одним из главных образов этого стихотворения. По разным причинам мне не очень хотелось, чтобы он это заметил (да, в общем, оно и действительно несколько беззастенчиво – помещать в свои сочинения живых людей в качестве образов). Поэтому я публиковал эти стихи, то оставляя инициал, то подставляя прозрачный перевод. Сейчас этой необходимости, увы, больше нет».
КХ-5. В этой публикации третья снизу строка читается: «Безумный Волк с облезлой головой». Так же в СХ-2004.
Сергей Евгеньевич Вольф (1935-2005), поэт, прозаик, детский писатель, был другом О. Ю. с первой половины 1980-х.
О. Ю. о Вольфе: «Сергей Евгеньевич Вольф <…> коротко знаком читавшим Довлатова (а это чуть ли не все выучившиеся грамоте к рубежу 80-х и 90-х гг.) в качестве персонажа довлатовских "мифов и легенд" о ленинградской литературной среде, блестящего и смешного красавца, барина, скупердяя и выпивохи "Сережи Вольфа". Все так, в бытовом смысле Вольф навсегда остался человеком 60-х годов, с соответствующими повадками, интересами, музыкальными вкусами и пр. Таким и воспринимается современниками. Призрак же Сергея Вольфа, поэт Сергей Вольф, принадлежит не своему "физическому" поколению, а поколению, начинавшему сочинять в середине и в конце 70-х годов, когда он и сам, быть может, слегка притомленный планомерным сочинением детгизовских повестей (больше полутора десятков авторских книг), начал постепенно переходить от застольных прибауток <…> к сочинению трагических стихотворений, в поэтологическом смысле имеющих очень мало общего как с творчеством т. н. «ахматовских сирот», так и с замкнутой метафизикой ереминского или разомкнутой метафизикой аронзоновского плана. В 80-х годах Вольф оказался, как это ни парадоксально звучит, молодым ленинградским поэтом; соответственным был и круг его стихового общения, соответственными оказываются, если рассматривать их ретроспективно, и многие стилистические особенности его стихов <...> Еще тогда, в восемьдесят первом или втором году, когда я услышал от него (при чтении стихов у него появлялось вдыхающее, клокочущее, почти грузинское произношение): "Мне на плечо сегодня села стрекоза…", я начал потихоньку задумываться: не эта ли его "ограниченность" – безумная, бессмысленная по тогдашним понятиям честность, даже в отношениях с "ними", не это ли его признание своего поражения – своего рода бронированное смирение, скрывающее неслыханную, нечеловеческую гордость, не это ли нежелание обманывать и обманываться дали ему шанс на только еще тогда проклевывающуюся, проклектывающуюся третью жизнь. Если ты сыграл, проиграл и отдал проигранное, то можешь когда-нибудь сесть еще раз. А шулера – они, может, никогда не проигрывают, но они и не выиграют никогда, потому что их никогда не отпустят из-за стола. И не один я над этим задумался – все из тогдашнего дружеского круга, принявшего вдвое старшего Вольфа как одного из своих, сделали из этого урока выводы. То есть все, кто смог. А его стихи… мы их просто любили». («На жизнь поэта», НЛО, 2006. №1)
С тетрадами своих столпотворений – отсылка к стихотворению Заболоцкого «Прощание с друзьями» (1952): «В широких шляпах, длинных пиджаках / С тетрадями своих стихотворений…»
Безумный Волк – поэма Заболоцкого (1930) и ее главный персонаж.
Безумный Вольф с облезлой головой / И белой оттопыренной бородкой – эти строки есть в Б2 (запись от 12. 03. 1989 г.). В Б4 в одном из черновых набросков, слова «Вольф с облезлой головой» зачеркнуты и заменены на «ангел вертит головой».
Стихи Сергея Вольфа и статьи о них можно прочитать здесь.
Сокращения: КХ-5 - Камера хранения, вып. 5 1997; СХ-2004 – Избранные стихи и хоры, М., 2004; Б2 – Синий блокнот с записями 1989-1991; Б4 – Цветной блокнот (с цветочным узором) с записями 1992-1994
Прага. Из романа «Улыбка Шакти»
ПРАГА
Присели с Таей на скамейку на пражском кладбище у могилы Кафки. Ясный летний день, безлюдно. Молчим. Я пытаюсь как-то собрать все это воедино. Кафку с его отцом, с которым у него были трудные отношения, а теперь лежат в одной могиле в обнимку костей. Моего отца, с которым были ближе некуда, а теперь он на мюнхенском кладбище, и я не могу прийти к нему, не идут ноги, и слова знать меня не хотят – годы. Егеря Гракха, который охотился на серну в лесу Шварцвальда и сорвался в пропасть, и с тех пор ни жив ни мертв, плывет по небу на некой барке между мирами, и Юлия, жена шкипера, всякий раз ставит у его изголовья напиток той страны, над которой они зависают.
Как же все это произошло? Он не может ответить. Миг невнимательности капитана, легкий поворот руля, притяжение какой-то невыразимой родины…
Именно так и происходит – легкий поворот, миг невнимательности. И всё, и плыву на этой барке, потеряв женщину, жизнь, Индию, и конца этому нет. И ответа не будет, где ты. Здесь, на этой скамейке, рядом с другой женщиной, напротив могилы того, кто всю жизнь писал Егеря Гракха и так и не смог закончить.
Я не егерь. Прошли годы. Рядом со мной Тая, вернулась Индия… Можно сколько угодно повторять, но с этой барки уже не выбраться, как бы все ни менялось вокруг, даже таким ясным днем, с ладонью Таи на моем колене. У могилы того, кто писал о телесной возне между мужчиной и женщиной как о собаках, рывшихся друг в друге… Чтобы обрести то, что никогда не найти. Да, Тая?
Мы находили. И в том костре за озером. Еще вчера. В городке Добрич в предместье Праги, где живем в доме моего друга-художника, уехавшего ненадолго в Канаду, оставив нам ключ и кота. Озеро на окраине с хвойным лесом, вошедшим в воду, где у поверхности плавают легионы карпов, перестраивая свои колонны, как души легионеров, уже не помнящих себя. А за озером высится замок, где когда-то жили художники, а теперь психбольница. Или она и была для них, не помнящих себя. И оттуда порой доносятся протяжные крики. И легионеры перестраиваются под водой. И горит костер, а мы сидим – глаза в глаза – обнаженные и такие юные, как никогда еще. И перебираем пальцами друг друга – лицо, уголок губ, ключица, подвздошная ямочка. Чуть покачиваясь и вытянув руку, как два богомола. Перебираем, боясь коснуться, а там внизу все уже происходит, и это как две жизни – вверху и внизу. Земля и небо. Мы в небе, а на земле уже все идет к концу. Она сидит на мне, полулежащем у костра, и бедра ее раскачиваются вперед-назад, а лица наши и руки – в небе. Вверху – юные мальчик и девочка, у которых это впервые, а внизу – раскачиваются на качелях мужчина и женщина, страстные, мокрые, падающие в «никогда». И костер догорал между верхом и низом, в его стихающих стонах и рваненьком смехе ее, жалобно полевом.
Сидим на скамейке, и я все никак не могу собрать это воедино. Кафку, себя, Таю, прежнюю жизнь, егеря, барку, день этот ясный, тишь, двух синиц, прыгающих по могиле. Она убрала ладонь.
Вернулись в наш пригород к вечеру. Дом был большой, в трех уровнях и выходом на четвертый – с террасой, откуда видны были леса, припавшие к городку. Мрачные, хвойные, набравшие в рот сумрака и какой-то безысходной… нет, не печали, а безжизненности. Даром что в лесу этом жили олени, те самые серны, наверно, на которых охотился егерь Гракх. Там мы гуляли подолгу и молча. Даже когда разговаривали.
Трудные были дни. То близость без кожи, то глухонемая стена. И садились на велосипеды и разъезжались в разные стороны, изматывая себя педалями.
А наутро уже были в лесу, и однажды к нам подошло чудо. Обычно оно не подпускает к себе ближе нескольких десятков шагов. А это медленно шло в нашу сторону, мы присели на тропе и прижались друг к другу. А она, серна, подходила все ближе, пока чуть не коснулась нас, и высоко подняла голову с нежно-длинной шеей, уходящей прямо от нас в небо, так и замерла. И мы всё сидели, щека к щеке, запрокинув головы.
В городке этом был замок, в одном из его флигелей – музей кукол и игрушек. Тая любила это, и сама много лет мастерила кукол. Даже в Индии находила особые инструменты для резьбы по дереву и возила их с собой, а когда оказывались рядом с плотниками – корабельными или деревенскими умельцами, подсаживалась к ним, присматриваясь к ремеслу и древесине. У меня это вызывало двойственное чувство. Хорошее – если о творчестве и увлеченности. И не очень – о самих куклах и связи с их потусторонностью.
В музее мы были единственными посетителями, и пока она ходила по комнатам, разглядывая экспонаты, я установил камеру в дальнем зале и сел напротив, чтобы снять видео с рассказом о любви и смерти в этой дивной комнатке с игрушками и платьишком воспитательницы на стене. В предместье Праги, в городке Добрич, за тридевять земель от Индии, о которой шел сюда и думал. Об Индии, возникшей из самосожженья любви. От отчаянья, от обессмысливания всего, что держит в жизни, от невозможности выбора. О женщине, шагнувшей в огонь, о Сати. Ее отец, великий царь Дакши, проводил один из священных ритуалов, на который приглашались самые уважаемые гости, но узнав, что его дочь полюбила Шиву, вознегодовал и не только не пригласил ее с женихом, но и отказал им в благословении. По одну сторону сердца Сати – дом, род, по другую – любовь. И невозможность выбора. И шагнула в огонь. Но за мгновенье до этого душа ее в ипостаси Парвати осталась жить, а Сати сгорела в огне. И Шива, придя в отчаянье, обнял ее, Сати, обугленную, и началась в небе неистовая пляска безутешной любви и смерти. С мертвой, обезображенной возлюбленной в его объятьях. Еще немного – и все мирозданье ушло бы в эту воронку отчаянья. И тогда боги взмолились к Вишну, чтобы как-то остановить это. И он, Вишну, своей сударшана-чакрой влёт рассек уже тронутое разложеньем тело Сати в объятьях Шивы, и пятьдесят одна часть ее рассеченного тела пала на землю, и там, где каждая из частей касалась земли, всходили сады. Этот цветущий сад и стал Бхаратом, то есть Индией.
Хорошо, что дом большой, не дойти друг до друга, когда чужесть обметывает углы. Тая на верхнем этаже, читает, наверно, или просто лежит, глядит в окно. А я внизу, в большой зале, нашел куклу почти с меня ростом, в красном платье и светлыми густыми волосами, как у Таи. А лицо с удивленной печалью. Усадил за стол, налил ей коньяку, придвинул ее руку к бокалу. Взяла. А я взял маску венецианскую с колокольцами.
Помолчи немного. Либо живешь, либо пишешь. Не на что человеку опереться внутри себя, никого там нет. И Богу не на что – потому и мир. С семьей, домом, любовью, памятью, ромашкой, стрекозой. Чтоб не сорваться. Или свобода. Ни на чем не держащаяся и никаких смыслов не ищущая. И еще какой-то набор неименуемых состояний, который дышит на зеркальце твоей жизни. В близости не выживают. Да, принцесса? И она медленно наклоняется, двигая бокал в мою сторону.
Скрипит лестница, Тая спускается, садимся ужинать, при свечах, втроем.
Нет, не было ужина на троих. Я поднялся наверх, лег рядом. Выключил свет, оставив напольную лампу. Так и лежали под разными одеялами, не зная, как повернуться – спинами ли друг к другу, лицами ли, такими родными и такими чужими, как дотронуться, чем? Протягивая руку и замирая на полпути. Притворяясь спящими. И все же, превозмогая, прижавшись. И – я не помню, что было потом, то есть между – но вот она уже стоит на четвереньках на полу у кровати, спиной ко мне, издавая блеющие звуки, изображая овечку. От неожиданности я растерялся. В этом была и пощечина, и обида, и вызов, и фарс. Она швырнула себя мне как кость, как любовь, как скотоложество. Мягко, игриво, наотмашь. Я чувствовал всё растущее возбуждение, постыдное, гадкое, но и справиться с ним не мог. Глядя на нестерпимо желанное, которым она вихляла и вскидывала, изображая эту карикатурную овечку, и блеяла, блеяла, призывая меня. И я не знал, то ли смеяться от этого, то ли выть. И сквозь униженье и стыд, и обиду, и всю эту дурь, разгребая руками их, морщась и закрывая глаза, я вдруг почувствовал, что я уже в ней, и она все блеяла, блеяла, стихая, плача.
Роман выходит в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2022 году
Хрусталь и камень
Давай что-нибудь сделаем. Зарежем маленького зверька: лягушку или змейку, сказала она, а я спросила: зачем? Она замолчала, и я подумала, почему ты не отвечаешь? Всё стало понятно, но не сразу: это я ответила. Вместо давай сказала зачем. Больше она об этом не заговаривала.
Я вижу: купола без церквей вдоль Керченской дороги, подсолнуховые поля; вижу огонь, искрящийся паутинкой, но может ли на Лысой горе полыхать сухостой? Родители везут её в Сочи, к новым подругам, открытиям. Я еду по исцарапанным дорогам Крыма, бесцельница, не пригодившаяся лету, а солнце сквозь облака – как сквозь обгоревшую со всех сторон бумажку.
Я знаю, что в Сочи есть девочки, там это не редкость, которые без раздумий согласились бы зарезать лягушку или змейку: покажусь я скучной и несмелой, когда мы вернёмся, и ей будет, с чем сравнить? Я еду и вижу: моё лето. Я буду делать только особенные вещи, а на что она сказала бы какая глупость или какая скука, делать не буду.
В доме на холме мы гостили прошлым летом. Я проводила дни, сидя на порожке открытой верхней кухни и удивлялась: чаша гор со сложенными на дне домиками, мечетями, виноградными плантациями; прямой бесшумный треугольник моря. Теперь, когда всё было не вновь, это место не увлекало только тем, что существовало здесь, посреди зеленоватых склонов. Мне нужно было жить и ждать. Чтобы ждать, нужно было найти что-то кроме.
Под плетёной ножкой кресла ежевика. Я не люблю ежевику, каждый раз пробую, продолжаю не любить и снова пробую. Может быть, оно? Оно. Ежевика под плетёной ножкой кресла была оно. Хоть на вид как всегда, малина-уголёк, ни повода для собственного имени, на вкус – сладкая, без горечи и вязи. Я подумала: нужно привести ей этих ягод, потому что только эта ежевика вкусная, а остальная нет, и это моё открытие.
Сидя на порожке верхней летней кухни, чувствую спиной жар от растапливаемой итальянской печи. Внизу вижу людей, идущих по низкой крыше дома. Почему они выбрали это место для жизни? Они выбрали его для смерти? Старый человек с большой семьёй приехал когда-то на берег Веселовской бухты, чтобы умереть. Он подумал: здесь хорошо. Оставшиеся в живых, похоронив отца, основали город, в котором приятно было умирать: город отложенной смерти. Они живут тихо и бесшумно, подражая еле видимому морю, а уезжают только чтобы искать мыс Меганом.
Две девочки по берегу: одна ведёт, другая следует; одна высокая и прямая, другая поменьше, послабже сделана. По скалистому берегу одна пробирается, смело шагая. Другая всё приседает, сначала опускает ногу, потом опускается за ней. Они шагают к валуну. В отсутствие людей на нём сидят бакланы, всё покрыто белёсым помётом, пахнет рыбой. Девочки снимут с себя одежду, сравнят линии загара, будут прыгать в воду, пока ноги не перестанут крениться вперёд, а «рыбка» не станет ровной. Они расстелют одеяла и найдут каждая себе местечко, где во впадины камня идеально вкладывается тело. Одна скажет:
– Я понимаю яхты, ходишь под парусами, уходишь далеко: шторм так шторм. А вот эти моторчики у берега я не понимаю. Надеюсь, приплывёт Коктебельский змей и всех их сожрёт.
Семья Лизы снимала верхний дом, и родители отправляли нас на море вместе. Она была очень красивой и боялась только медуз (а ты всех красивее и ничего вообще не боишься), знала побережье, знала всё про Коктебельского змея. Не того дутого, который, прицепившись за катером, радостно катает туристов, а настоящего, раненого Победоносцем, легендой плавающего в море. Того, кто может и всех этих туристов, и катера, и даже собственную добродушную копию сожрать. Его сложно увидеть: он показывается тем, кто сам способен стать Чёрным морем.
На людном пляже бабушка в простом домашнем платье волнорезом стоит в воде. Море старается сдвинуть её с места, но морю не справиться. Внук плавает вокруг по мелководью, второй сидит на суше и кидает в бабушку охапки камней. Не бросай, а то попадёшь. Омыв солью большой выступающий камень, она садится на него и не двигается больше: среди крика детей и зазывал смотрит в сторону мыса Меганом.
Эта бабушка – единственный человек, который видел Коктебельского змея в Веселовской бухте, и этот дар она ничем не заслужила. Сидя на галечном пляже, чувствую спиной жар растопленного солнца. Лиза раскладывает калёные камни по моим ногам, и боль от них приятна. Лиза говорит: не смотри на камни, тогда их не будет. Я смотрю на бабушку, а бабушка – на мыс Меганом.
Каждое утро я вставала до того, как акации поднимут листья – так дни были длиннее. Все спали, были свободны гамаки, развешенные под пергалой. Я срывала несколько персиков и долго чистила их от червей; высасывала мякоть из инжира, держа его за хвостик, как хинкали; Слон – большая лысая гора – по ночам отражал свет, а днём как будто падал на город мёртвых. Но мне приснился сон. Она рассказывала, как собиралась без меня со своими подругами, какая это была радость, испытывать с ними то, что со мной не испытать, и как хорошо, что меня на самом деле нет. В то утро я пролежала в постели, пока мама не вошла и не сдёрнула с меня одеяло. Я больше не могла вставать рано. Так она украла у меня очень много крымских часов.
Она говорит, что живет восьмой раз, и это последний. Все предыдущие выходило не очень, а потому теперь ничего нельзя упустить, никого нельзя выбирать. Когда я пришла к ней, легла на кровать и сказала: мне грустно, она достала шкатулку с украшениями и стала рассказывать, откуда каждое из них. Надела мне на руку деревянный браслет на пуговках, украденный из лавочки в стране за океаном, где она была, когда была до меня (а потому нельзя сказать, действительно ли была). Браслет лёг на кожу, как пропитанный уксусом бинт, а грусть прошла. Я не поняла, что могу его оставить, сняла и положила назад. На следующий день его носила другая её подруга. Она не смогла понять, что моя грусть, этим браслетом утешенная, сделала его нашим. Она отдала его другой так просто. С тех пор ничего нашего у нас не было, а я уже не жду, что будет.
Я живу впервые, ничего пока не знаю, мне всё страшно. Но если ты захочешь, когда-нибудь мы умрём вместе, и я очень постараюсь, чтобы и со мной это случилось навсегда.
Я заходила в воду в сандалиях, чтобы не изранить ступни. Лиза, у которой уже и ступней не было, а была пемза вместо нежной кожи, обернулась и сказала: ты как курортница. Она оставалась тут на всё лето, презирала туристов, но знала многих местных. Она рассказала мне про Софие.
Беглянка лугов со скошенными травами, искусница записывать символы в столбик, она никогда не садилась под виноградную пергалу пить утренний кофе, а зеленый инжир отличала от груши только на ощупь. Она работала на почте, на втором этаже белого штукатуренного здания в центре города мёртвых, и каждый день без десяти восемь выходила из дома, чтобы в восемь ровно распахнуть привязанный к столу журнал и записать в нём своё имя. Затем она спускалась в магазин «Эфсанэ», покупала к завтраку свежие самосы в сахарной пудре, а девушка из-за прилавка много улыбалась и мало говорила. Девушка эта зайдёт к ней после обеда и купит конверт. А после ужина зайдёт и купит марку. Софие заметит это мельком, снова примется царапать в привязанном журнале. Нитка журнала пушится, треплется. И стоит Софие в своём кабинете сделать два шага, как приходится разворачиваться и идти назад.
Своему деду перед его смертью она подарила перстень с чёрным ониксом. Когда дед умер, Софие сняла с мертвеца перстень и приняла его, как единственное наследство. Мы как-то притаились за углом почты, чтобы посмотреть, действительно ли она носит оправленный оникс с руки мертвеца, но едва услышали, как кто-то спускается, испугались и убежали в «Эфсанэ».
Мыс Меганом носит чужое имя. Вот что было написано в письме, которое получила Софие. И ничего, ни подписи, ни адреса, только конверт с маркой – сказала Лиза.
Она пришла ко мне растерянная: я очень несчастная, я всё ненавижу. Она всё давно приняла, ни во что больше не верила, я ничем не могла ей помочь. Никто уже не мог ей помочь, кроме времени и слов солёных песен. Ты скала, ты камень; но ты нежное сокровище из крымской пещеры – ты хрусталь. Хрусталь и камень. Гребешок? медуза. капелька.
Тот, кто нас вёл, сказал: никогда не бойтесь гор, и тогда не упадёте. Но никогда не забывайте, что вы в горах.
Тот, кто нас вёл, смеялся над моим неуклюжим шагом и над тем, как я на четвереньках карабкаюсь вверх вместо того, чтобы освоить шаг ёлочкой. Он говорил, что ноги у меня не горные, привыкшие к лесу и городу – к прямоте. Это правда. И глаз у меня привык к прямоте – не верит в рельефы. Мозг тоже привык думать прямо, и ты вьёшься вокруг моей прямой линии спиралью, никак не хочешь ухватиться.
Мне нравится ходить в горы, потому что нравится лазать, карабкаться, залезать всех выше. Мне не нравится ходить в горы, потому что плечи и коленки потом изранены камнями. Мне не нравится, что, поднимаясь наверх, нужно смотреть под ноги, и перед глазами серые, серые, коричневые помехи, а оглянуться и увидеть, ради чего залезала, можно только остановившись.
Мы шли в горную пещеру, и я подумала: вот бы просидеть там весь день и не рассказать ей об этом. Тогда она поймёт: что-то другое появилось в моих глазах, то, что появляется в глазах тех, кто целый день без еды и воды просидел в пещере. Многое пережить и не рассказать тебе. Нет, это месть невниманием.
Все изучали, что там внутри и, не включив фонарей, заходили в неосвещённые уголки. Кто-то наткнулся на труп горной козы, громко кричал. Я залезла на узкий бордюрчик над входом в пещеру, на уступок, и отломила от скалы кусок горного хрусталя.
По городу мёртвых я хожу в коконе из себя и тебя. Кто-нибудь спросит: ты видела город мёртвых? Нет, я гуляла по его улицам, смотрела на него с уступка пещеры, но видела только себя на него смотрящую, и тебя в нём отсутствующую. Мне не показался бы Коктебельский змей: чтобы стать морем, нужно хотя бы на время перестать быть собой.
Вот город: стой и смотри. Забралась так высоко, пещера в складках Слона, золотой час, благо. Две вещи, которые я увожу из города мёртвых для себя: когда колется юкка, в месте укола болит кость, а не плоть. Трогая навес из горного хрусталя, я чувствую не навес, а свои пальцы.
Я хотела поехать на мыс Меганом и не поехала. Неудобный маршрут. Автобус из города мёртвых в соседний город, оттуда – к мысу, но, чтобы успеть назад до темноты, нужно сразу отправляться обратно.
Кокон непрозрачен, пусть внутри него появится что-то кроме гамака, итальянской печи, города. Сама себе создаю тайну: Меганом. Меганом. Меганом – повторю трижды, и станет легендой. Так ли он хорош, как его имя? Не знаю. Тот, кто нас вёл, ткнул пальцем в полуживой цветок и сказал: смотри, безвременник. Безвременник, усыхая, шептал: имя обман. Снимаю с пальца ониксовый перстень. Я – Коктебельский змей. Да нет, всё ненастоящее. Свет, отражённый лысой горой, стирает город. Нам давно не тринадцать, а ты, умница, этого уже не боишься.
Время ничего не значит, когда его можно посчитать, но нельзя назвать. Через три дня – почти что бесконечно долго, послезавтра – уже конец. Я уезжаю послезавтра, что я тебе привезу? Не ежевику, конечно, её я съела. Не нужно ничего нашего, пусть всё будет твоим. Я бы столкнула ту бабушку в море, чтобы ты осталась единственным человеком во вселенной, кто видел Коктебельского змея в Веселовской бухте, но его уже нельзя увидеть. Змей спрятался, притаился на каменистом дне, куда людям нет ходу. Змей готовится к смерти: его время уже можно назвать.
Клод Руайе-Журну. Инверсия (перевод с французского и предисловие Кирилла Корчагина)
КЛОД РУАЙЕ-ЖУРНУ: ТЕТРАЛОГИЯ
Клод Руайе-Журну – представитель того блестящего поколения в новой французской поэзии, к которому принадлежит также Анна-Мария Альбиак, Эмманюэль Окар, Доминик Фуркад и некоторые другие поэты. Это поколение непосредственно следовало за Андре дю Буше, Жаком Дюпеном и Ивом Бонфуа, объявившим войну сюрреализму, который превратился из революционного и авангардного течения в очередную форму бытования культурного истеблишмента. Руайе-Журну – один из авторов, который последовательно и методично подтачивал сюрреализм, и прежде всего он боролся с образами. Как он скажет в одном интервью, формулируя свое поэтическое кредо: «Не образ, а слово "образ"».
Центральное его произведение – так называемая тетралогия: четыре поэтические книги, каждая из которых представляет собой цельное произведение, с трудом членящееся на части и требующее точного воспроизведения расположения всех слов на странице, интервалов и пустот (пустота – вот на что здесь стоит обращать внимание в первую очередь). Это упорная работа длиной в три с половиной десятилетия: первая книга вышла в 1972 году, последняя – в 1997-м: «Инверсия» (1972), «Понятие препятствия» (1978), «Предметы содержат в себе бесконечность» (1983), «Неделимые сущности» (1997). Потом было еще несколько книг, развивающих темы этих четырех. В этом номере «Флагов» публикуется первая из этих книг, в следующих номерах будут появляться следующие, чтобы читатель смог постепенно открыть для себя мир тетралогии.
У Руайе-Журну есть несколько любимых слов – они повторяются в каждой его книге, некоторые – с редкой настойчивостью. Каждое из них сложно перевести на русский язык: русское слово кажется либо слишком широким, зараженным мистикой (так Бибихин переводил хайдеггеровский Dasein картезианским присутствием), либо, напротив, слишком узким, неспособным выразить хотя бы приблизительно тот же смысл. Примерный список этих слов: image, geste, couleur, mer, mére, sens, récit, fable, phrase, offrand, blanc, vide, corde, espace, piéce. Здесь есть те слова, которые можно воспринимать как терминологию лингвистическую (phrase, sens) или философскую (espace, image), есть слова, относящиеся к области письма (récit), которые значат не совсем то, что при буквальном переводе: когда поэт пишет récit, он явно имеет в виду стихотворение и его специфическое течение, развертывание во времени. Есть и такие слова, двусмысленность которых трудно объяснима: часто встречается слово corde, относительно которого никогда нельзя быть уверенным идет речь о геометрической хорде (как в стихах про геометрическую разметку садового участка) или о веревке, о струне. Это те элементы, которые составляют сеть ключевых для поэта понятий, остов, на котором держится здание тетралогии.
Таких слов достаточно много, но главное и самое частое из них – image. В некоторых случаях это слово явно обозначает изображение или некую визуальную картину, однако в нем сохраняется и более глубокий смысл – тот же, что присутствует в русском слове образ, когда речь идет об иконах, где, по словам Мари-Жозе Мондзен, «видимое не является воспринимаемым». Образ могущественен, и именно за пределы этого могущества стремится вырваться поэзия Руайе-Журну: здесь всё сопротивляется представлению – читая эти стихи, невозможно что-либо вообразить или представить.
Такой чисто словесный образ существует уже за пределами литературы и литературности – он становится следом знака, указывающим на что-то неясное, не поддающееся реконструкции и интерпретации. «Наука о следах (ихнология), с которой начинается реконструкция роста и веса доисторического животного, не столь уж далека от моего труда» – пишет поэт в другом месте по схожему поводу. Он ограничивает себя, настойчиво следуя за привычными, обжитыми словами, стертыми значениями, так долго бывшими в употреблении, что их истинный смысл уже перестал быть кому-либо известен. Но в этом ограничении – как и в постоянном вымарывании, сокращении, превращении текста в зияющее поле умолчаний – пожалуй, кроется суть поэтической экономии Руайе-Журну:
Я предлагаю прочитать то, что едва видимо: то, что таит в себе угрозу, – то, откуда может возникнуть нечто жестокое. Батай говорит, что философ – это тот, в ком есть страх. Есть нарядные книги. Но писать – значит быть способным показать всю анатомию. Нужно дойти до границ литературности. Я привязан к Аристотелю и Витгенштейну. Я часто думал: это из-за того, что я ничего в них ничего не понимал. Сейчас я думаю: это из-за того, что они писали просто, кропотливо, дотошно. Меня завораживает дотошность. Если довести литературность до предела как это сделал Витгенштейн можно соскользнуть в ужас.
Часто о Руайе-Журну и его сподвижниках (прежде всего, об Альбиак и Оккаре) говорят, когда вспоминают международный успех языковой поэтики, перечисляя аналоги этого движения за пределами США. Однако американская поэзия все-таки далека от этих текстов, даже несмотря на то, что в них иногда упоминаются ее мэтры – Чарльз Бернстин, Майкл Палмер. Их имена, впрочем, скорее указывают на связность международного поэтического пространства – на то, что при всех различиях поэты готовы читать друг друга (600-страничный том Руайе-Журну вышел в США в переводе Кейт Уолдроп, а сам французский поэт на протяжении многих лет пропагандирует американскую поэзию, хотя, скорее, объективистскую: его любимый поэт – Луис Зукофски).
Поэзия Руайе-Журну кажется более аналитичной, чем стихи его американских визави: последние куда настойчивее стремятся уловить реальность в ее кинестетико-тактильном измерении (что верно чувствовал Аркадий Драгомощенко, много переводивший американцев); они доверяют звуку (за это Руайе-Журну критикует Бернстина), в них еще отзывается голос площадей, не дававший покоя битникам. Искусство Руайе-Журну кажется куда более камерным: оно решительно отказывается говорить с миром на его языке, остается равнодушным к непосредственным впечатлениям, ощущениям тела: всё это скрыто в подтексте и безжалостно вымарывается поэтом, хотя какие-то указание на чувственную полноту мира все-таки остаются – в виде никогда не называемой прямо женской фигуры, всегда находящейся в центре разворачивающегося récit, фигуры влечения.
При этом аналитичность и борьба с образом не означают отказа от больших тем: значительную часть публикуемой здесь книги «Инверсия», занимает поэма в прозе «Многочисленный круг», где поэт с почти навязчивой настойчивостью пытается исчерпать образы алжирского восстания на улицах Парижа и его кровопролитного подавления: 17 октября 1961 года протесты против французского правления в Алжире были жестоко подавлены французской полицией – очевидцы утверждали, что тела избитых до полусмерти протестующих сбрасывали в Сену. Разрушительные последствия этих событий до сих ощущаются во французской культуре, хотя само событие скорее замалчивается (можно вспомнить, например, фильм Михаэля Ханеке «Скрытое»).
Тетралогию Руайе-Журну не назвать прямым откликом на эти события, как и на события 1968 года, также присутствующие здесь незримой тенью, однако в ней чувствуется желание подвергнуть отстраненному анализу ужас, который охватывает человека при столкновении с государственной машиной. Руайе-Журну больше не возвращался целенаправленно к этой теме, однако спустя годы образы восставших будут возникать в более поздних книгах, где на смену коллективному страданию (захлебнувшейся революции) придет осознание индивидуального страдания – переживания смерти матери, ставшего со временем едва ли не основным мотивом его поэзии. Созвучие матери и моря во французском, mére и mer, позволило поэту «разомкнуть» индивидуальность, частность этого переживания, сделав его переживанием коллективным, расширяющимся далеко за пределы личного опыта: людское море впервые появляется в поэме, посвященной алжирскому восстанию, и возвращается отзвуком в более поздних текстах, где отношения с матерью становятся прообразом отношений со всем человечеством, с коллективностью как таковой.
– Кирилл Корчагин
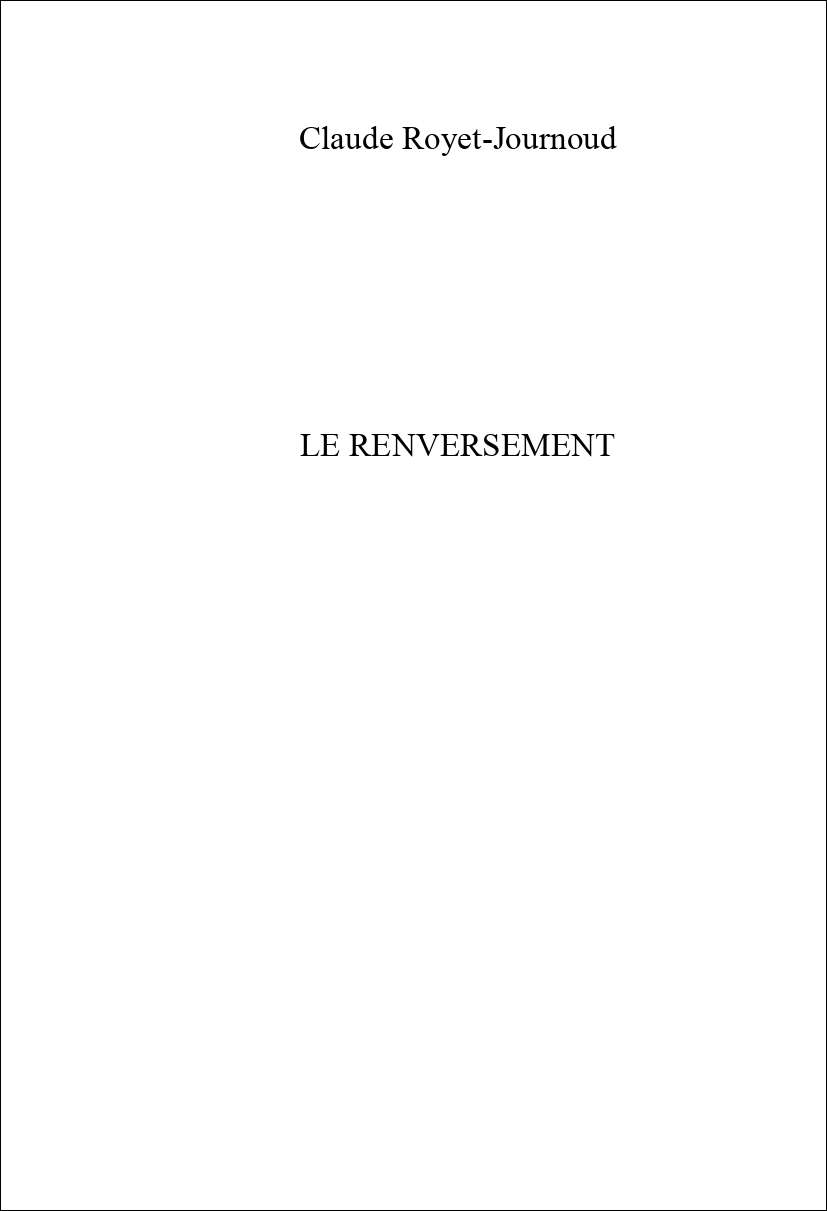
.png)
.png)
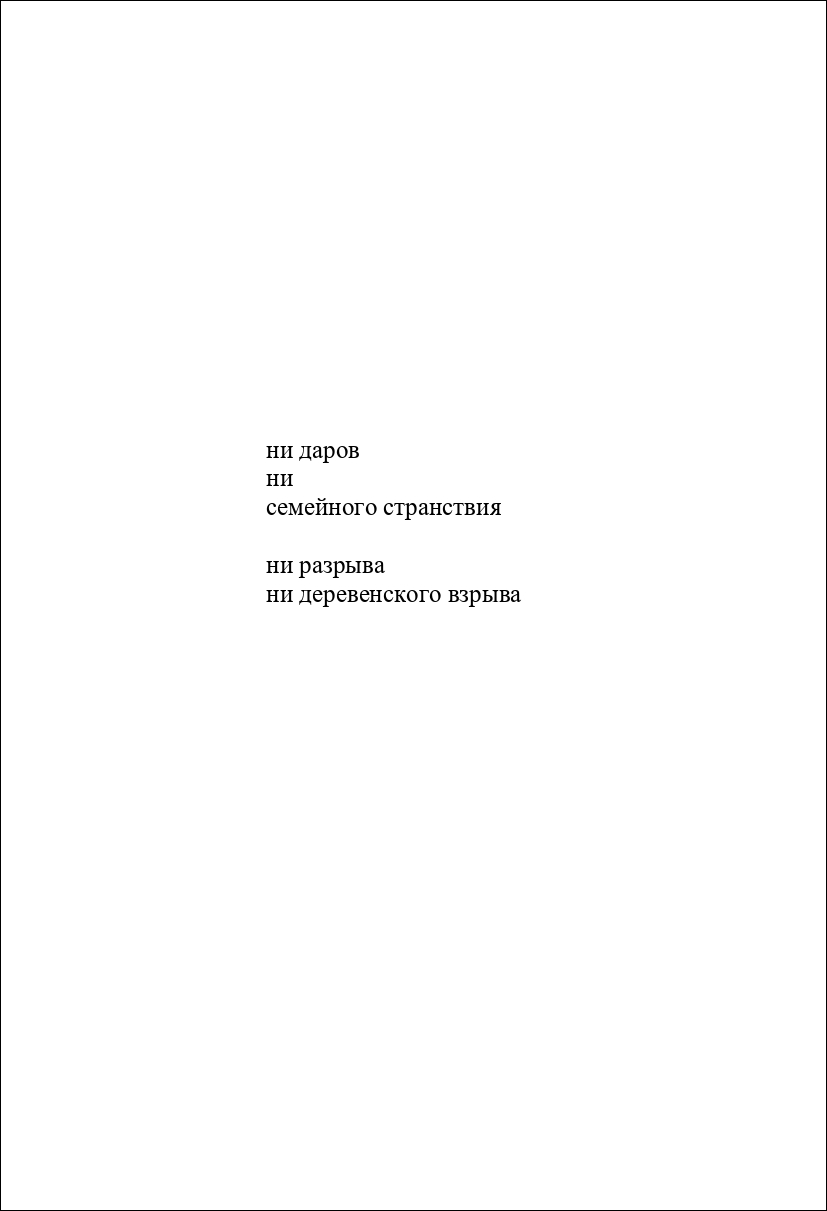
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png) <br>
<br>.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

